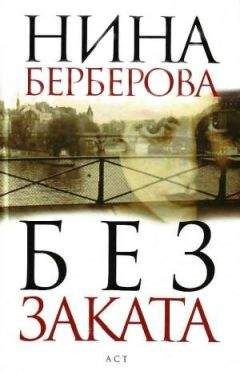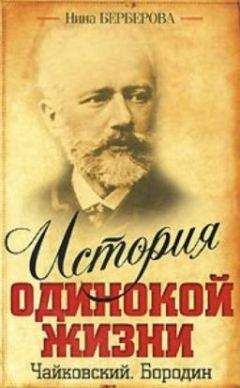Теперь все трое шли к выходу, к сторожевой будке, где на лавочке глухой и сонный, сидел сторож. Сторож Настю знал.
— Французинка, гувернантка, — ворчал сторож, — за детьми приглядеть не умеют. Коченеет, сыночек, ему бы тепленького испить. Адресок оставьте свой, Настасья Егоровна, берите его. Экой случай! Небось хватятся…
Но Настя побоялась уводить мальчика и тоже присела на лавочку: неужели так никто и не придет за Самом? Становилось темно и холодно, пора было запирать решетку. Мальчик дрожал все сильнее и было видно по его лицу, что не все еще слезы выплаканы.
Вера стояла поодаль, стараясь услышать о чем говорят, стараясь рассмотреть мальчика до последней пуговицы.
— Да как же ты улицы своей не знаешь? А еще мальчик! — укоряла Настя. — Эх ты, кавалер, на обратный манер!
Безжизненное лицо Сама на мгновение засветилось мыслью, потом он снова впал в прежнее свое безразличие. Только краска появилась в лице и придала ему надутый, напряженный вид.
— Позвольте вас пригласить к нам, — сказала Вера, подходя вприпрыжку. — А потом все устроится.
— Дура, — не разжимая зубов, выжал Сам, набравшись храбрости.
Но больше оставаться в саду было нельзя. Дорожки ушли в черный вечерний мрак, последними прошли подростки с катка, гремя коньками. Сад приготовился к ночи и одиночеству, а улица за воротами вся была в огнях, и пропало небо, откуда — из ничего — слетали иногда отдельные снежинки. Настя взяла Веру и Сама за руки и решительным шагом перевела их через мостовую. Сам был взят в плен, и Вера, косясь глазом, все время незаметно следила за ним. Так они шагали, и было беспокойно, было тоскливо, и сердце истекало неизвестностью и грустью.
На звонок открыла кухарка, и в переднюю, шурша канаусовой юбкой, вбежала мать: что так поздно? Чужой мальчик шагнул в переднюю и она удивилась, увидя мальчика.
«Он пойман!» — думала Вера. Надо осмотреть двери и окна, чтобы не выпустить его, оставить для себя, на память об этом синем, обыкновенном зимнем дне. Он станет жить здесь, и больше не будет пустой эта детская жизнь — только бы он не вспомнил, откуда он, с какой улицы, из какого дома. Это она нашла его и теперь оставит себе, и все отдаст за него: игры, и книги, и много обещанных радостей; этот рыжий мальчик станет ее собственностью.
А Настя говорила без умолку, и ахала кухарка, пока Сама раздевали и вели в столовую, прямо к горячему молоку, приготовленному для Веры. И Сам шел, как заведенный, опустив голову.
— Улицу, улицу помнишь? — спрашивала мать, подхватывая прядь светлых волос под гребень. — Да что же ты все молчишь, не бойся, не плачь, вспомни… Ах, Боже мой, что у него сейчас дома делается, воображаю. Мама есть у тебя?
— Есть, — сказал Сам и потянул носом.
— Фамилия твоя как? Как папу зовут? Вспомни, голубчик, милый, ну подумай, ведь ты совсем большой.
Опять какая-то мысль озарила Самино лицо. Он сделал усилие, задержал дыхание и, опрокинув чашку, заливая вокруг себя скатерть молоком, почти крикнул: «Адлер!» — и вдруг покатился смехом, звонко, чисто, будто звенел колокольчиком, и на мгновение замолк, и снова рассмеялся, и уже не мог остановить колокольчика: трезвон перешел в рыдание, в хохот, в долгую, громкую, истерику, во время которой он судорожно начал биться между стулом и столом, слезы текли у него по лицу, грудь в матроске разрывалась от плача. Его схватили, понесли куда-то, и там заметались, ища валерьянку, и найдя, осторожно покапали ею на кусок сахара.
Разгадка приблизилась, и Вера, стоя у кровати, на которую уложили мальчика, сдерживая слезы, смотрела на то, что происходит. У матери находились одно за другим нежные, странные слова, которые Вера, пораженная, слушала с тайным упоением. С ней говорили совсем иначе: во-первых, она была девочкой, и никто никогда не называл ее дружком, голубчиком и дурачком. Во-вторых, она никогда так страшно не плакала, никогда ничем не болела, и над ней, среди бела дня, никто не хлопотал, озабоченный и ласковый.
— Настя, телефонную книгу! — крикнула мать.
Разгадка приближалась. Вот еще немного и вещая книга выдаст все, Сам вернется в потерянный дом, и Вера останется одна, как прежде. И потому надо спешить. Пока мать листает страницы, Вера подходит к Саму и тихонько наклоняется над ним. Она проводит пальцами по его мокрому лицу, трогает губами его волосы и чувствует, что он пахнет знакомым, птичьим теплом.
— Адлер, Александр Семенович, Большая Дворянская, дом 21, — читает мать, нет, это должно быть гораздо ближе… Адлер, Альберт Григорьевич, корсетная мастерская — не похоже… Верочка, что же мы делать будем? Постой! Адлер, Борис Исаевич, присяжный поверенный и присяжный стряпчий… и на нашей улице, гляди! Дом номер 7 — напротив. А ну-ка, вставай, лежебока, может быть, ты дом узнаешь, а нет — в участок позвоним.
Отодвигают холодную тяжелую штору, на подоконнике искрится снег, и дышит холодом черное стекло. Там горит фонарь, люди идут по снежному тротуару. Сам неподвижно стоит с опухшими щеками и смотрит туда, где напротив — окно в окно — горит люстра в красном доме.
И тогда вдруг поднимаются заплаканные веки, круглятся зеленые глаза. Сам раскрывает рот и видно, что вместо молочного, выпавшего, уже растет у него сбоку тупой и сильный настоящий зуб. Он все вспомнил, он вздрагивает и обводит глазами комнату, он даже пытается объяснить, что с ним иногда бывают такие обмороки, после которых он забывает все. Он сразу делается почти взрослым. Скорей, скорей, звонить домой, маме, — он брызжет слюной в Веру, шаркает ногой то в одну сторону, то в другую, — благодарю вас, спасибо, пожалуйста, — других слов он не произносит, он просит простить его за беспокойство и наконец, бежит к телефону.
Вера остается одна, пока из столовой доносится Самин голос, повзрослевший, уверенный и чистый: да, мамочка, нет, мамочка, хорошо, мамочка. Дом напротив, как корабль, причалил к Вериной пристани, кажется, что еще утром на месте его был пустырь — его выстроили в один час, населили людьми, о которых вдруг стало так много известно, и мальчик, из неведомой дали приплывший, оказался попросту соседом — и его ни приручить, ни удержать нельзя. Сейчас за ним придут и возьмут его.
В передней позвонили, и Вера выглянула туда. Там стоял невысокий, плотный господин в бобровой шубе, в золотом пенсне, распустив концы белого кашне по обеим сторонам груди. От него пахло свежими, крепкими духами. Он уже прижимал к себе и тискал Сама, на которого и мать и Настя старались натянуть шубу.
— Извините за беспокойство, и спасибо, спасибо от себя и от жены. Ах Господи, ну что за мальчик! С ним это бывает, но Вяжлинский сказал, что пройдет… Мадемуазель новая, по улицам искала его, топиться хотела в проруби. А мы — ну просто в отчаянии были, золотко мое! Вяжлинскому верю, как Богу. Крючком застегни, у воротника… Спасибо еще, и еще, от всего сердца спасибо.
Сам, довольный и уверенный в себе, вертелся перед Настей. Когда он подошел к Вере, он вдруг стал важен и отвел глаза в сторону — она была чуть выше него и чтобы взглянуть ей в лицо, ему надо было взглянуть вверх.
— Благодарю вас, — сказал он и поковырял варежку.
— Да. Вот как! — вздохнула Вера без улыбки.
— Приходите к нам в гости, — сказал Сам, внезапно решившись вскинуть глаза и багровея.
— Когда? Сейчас? — растерялась она от радости.
Он взглянул на отца.
— Проси завтра днем, к чаю с пирожными. Какая хорошая девочка. Ай, какая у ней косица!
В это время Сам потянулся к Вериному лицу и чиркнув мягким носом по ее щеке, поцеловал воздух около ее уха.
Она оставалась стоять, когда дверь захлопнулась, и мать, почему-то строго взглянув на нее, потушила в передней свет. Не было в мире такого замка, которым можно было бы удержать в доме чужого мальчика, не было такой силы, которая дала бы Вере возможность увести его к себе, посадить, сесть самой рядом и смотреть на него без конца, на его веснушки, на его матроску, и слушать его, и говорить ему все, что взбредет на ум, и гладить его. Он не понял, что такое Вера, и выдал себя, он не захотел жить на свете ради нее одной, и от всего этого страшного и необычайного приближения осталось одно: она могла теперь смотреть часами в окно через широкую зимнюю улицу, которая с этого вечера — как этот город, как мир, — стала тоже немножко ее собственностью.
Приготовления начались с утра: была надета чистая рубашка, вышитая городками, и штаны, которые хрустели, как картон; самые тонкие (и все-таки толстые) рубчатые чулки, платье, отглаженное Настей, башмаки на пуговицах, которые скрипели и блестели так, что не заметить их было нельзя. Звонко выполоскав зубы, Вера несколько раз перевязала ленту в косе — на самом конце: коса выглядела длиннее, у затылка: Вера казалась взрослее. Перед самым выходом она решила почистить ногти, и сделала это чистым стальным пером. К зеркалу она подошла всего раз: посмотреть, чист ли нос? Она без зеркала прекрасно себя знала и высокого мнения о себе не была.