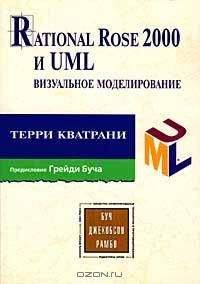Я все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял меня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он, пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и с моей души.
Жадно я хватался за книги; но, удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить... Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна...
У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ: то наряжает их в женщину, то подносит в мешках золота. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом, двенадцатый день, свое домашнее Ватерлоо... И у меня был такой год, такой день.
Человек, от которого я зависел, отправился на житье в одну губернию с намерением исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы; в той же губернии, в том же уезде находилась и деревня моего благодетеля. По соседству, мне позволено было жить у него: я уже пользовался некоторою свободой.
Мы помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в наших головах; но, не знаю отчего, мысли мои сделались мрачнее и звуки родных песен стали ближе, понятнее моему сердцу, чем сам бессмертный Моцарт.
Мой брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил меня с иными, расхвалил мои дарования, а потому я тотчас вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей и у кого фортепьяно было совершенно мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы я сделался деревенским учителем, - и, признаюсь, в деревнях мне оказывали более почета, чем в столице, конечно только оттого, что мой покровитель никому не рассказывал моей истории и не было нужды в этих объяснениях. К тому же его обращение со мною придавало мне невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно.
Однажды пригласили меня в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтоб аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Я занемог немного, и мне не хотелось; но уговорили, уверили, что я отказом испорчу праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей.
Важность обстоятельства убедила меня. Я, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился...
Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать пред многочисленное заседание гостиной. Когда я говорю "довольно смело", - это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступал всею ногою и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивей свободы, с которой я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу... Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще: с.
Как весело взошло солнце в этот день!.. О!.. Я только теперь чувствую, как хорошо его запомнил!.. Он тут, он весь тут (и здоровою рукою офицер бил себя по лбу), со всеми подробностями, со всеми мелочами!.. Мне кажется, я еще помню каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что я тогда взглянул или что услышал. Я могу пересказать вам этот день с такою же утомительною точностью, с таким же убийственным исчислением и слов и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды, а старухи свои сны.
Светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом!..
Я ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах.;, тихо катилась, как будто бессильный ручей! Кой-где крестьянские ребятишки играли по ней в своих челноках... ни одной волны, ни одной быстрой струи... О, как я любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвевал меня! Что-то душистое было в воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зелени по луговой стороне! Верно, природа, как помещица, к которой я спешил, праздновала свои именины. В эту минуту я был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Мне хотелось петь, я чуял вдохновение... но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал мои способности. Я доехал наконец туда, где по общему правилу должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превращать allegro в andante и adagio в allegro, то оттягивать, то гнаться в погоню за пискливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила меня к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой я был уже готов на жестокое испытание.
Передо мной промчалась к крыльцу коляска в шесть лошадей.
Мне также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, а у меня недостало душевной силы на такой отважный поступок. При -подобных случаях какой-то досадный голос напоминал мне: "Коляска и ты разница". Я оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи замечен.
В передней ожидала меня беда: должно было докладывать обо мне, и мне пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в моем сердце, но волею-неволею надобно было решиться. Долго я поправлял волосы, отряхал пыль, наконец вошел, разумеется, немножко боком и держася к стенке. По счастию, картина, поразившая меня, придала мне бодрости.
Много набралось туда деревенских соседей и соседок, но какойто оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем, и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная, беспечная жизнь полей с своей дикостью, с своей небрежностью, с своим своевольством отражалась в зеркале этого общества. Койгде мелькало женское жеманство, кой-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесаная голова, тут жилет, опутанный золотою цепью, там неглаженое платье, но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста, тут же ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Я подумал:
"Нечего робеть" - и подошел к хозяйке.
Достаточно дряхлая старушка сидела в креслах, положив ноги на скамейку; перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням, и приметное чувство гордости, смешанной с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку, ее безжизненные глаза.
- Это мне подарила Александрина, - повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону.
Я успел уже ей три раза поклониться и, вероятно, по милости подушки долго бы продолжал кланяться, если б какая-то молодая девушка, которую я в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей чего-то на ухо, вероятно обо мне, потому что она тотчас обернулась, а вместе с нею и все почтенное заседание, приподнялась на креслах и сказала:
- Ах, это вы, батюшка; покорно благодарю, что пожаловали; я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича; говорят, вы большой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя... Сашенька, поди сюда!
И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Признаюсь, мне было-не до Сашеньки: все глаза уставились на меня, и я горел, как на огне; однако ж я робко возвел мои очи на внучку, и сердце мое шепнуло мне: "Она должна хорошо петь".
- Рекомендую вам внучку мою, - продолжала старушка, - уж такая охотница до музыки!.. Прошу ко мне почаще жаловать:
вы будете с нею петь; ей надобно же не забывать, чему училась.
А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?
- Он поехал по делам в город, - отвечал я, - может быть, сегодня вечером воротится.
- Ах он, злодей, - сказала она, - совсем бросил старуху; я с ним за это побранюсь; он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, какой сделала мне сегодня Александрина? - И с этим словом она протянула обе руки с несносною подушкой...
"Скоро ли ты отпустишь меня?", - думал я и между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха унялась, проговорила: "Милости просим садиться"; ее гости перестали мерить меня с головы до ног, потому что кто-то еще приехал; я сошел с выставки и перевел дух.
Когда я отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрину и ее первое впечатление на меня.
"Она должна хорошо петь", - вот все, что-мелькнуло мне в ней. По естественному порядку своих музыкальных мыслей, я из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь.
Я не скажу вам, что она понравилась мне, не могу этого сказать; с словом нравиться соединяется какая-то мысль о равенстве, а Александрина так далеко стояла от меня в гражданском быту, что я не догадался бы вдруг, если б в самом деле она понравилась мне. Нет, это чувство при первой встрече с нею не могло заглянуть в мою душу, в которой от унижения так много было робости.