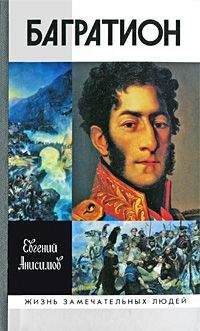Завуч заметно оживилась, встала, подала ему руку, предложив сесть.
- Теперь, я думаю, можно начинать процесс!
Сказала она, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее изможденному лицу. Она, видимо, забыла свои годы, пуская в ход, по привычке, все старинные женские средства.
Итак, начался спектакль...
Нас с генералом посадили в старые красные кресла - по-видимому, последний подарок спонсоров-курчатовцев.
Сын мой стоял навытяжку у письменного стола. А завуч стала ходить по кабинету с обвинительной речью,- так по-видимому было предусмотрено сценарием и отрепетировано дома. При движении она слегка походила на курицу, у которой подрезали крылья и которая все же пытается летать. Исходный же пункт движения как будто находится чуть ниже поясницы. Она была среднего роста и средней интеллигентности, в меру вежлива и весьма корректна. Словом, весь букет тех качеств, которые в ее возрасте и в ее среде ценились на вес золота. Завуч была и неплохим режиссером: просто диву даешься, как она сумела обыграть весь эпизод. Сперва Анна Каренина подала его прочувствованным контральто, потом с чарующей улыбкой, словно оценила со стороны, затем снова повторила с небольшими вариациями, наделив нарочитой значительностью. Подобно актрисе, когда она чувствует, что уже покорила зрительный зал, и теперь уделяет главное внимание нам, зрителям первого ряда.
У меня сложилось впечатление, что завуч дома законспектировала свою речь, потому что она периодически заглядывала, проходя мимо меня, в какую-то шпаргалку, лежавшую у нее на столе.
Я, дав себе дома клятву молчать, с большим трудом сдерживался от пререканий. Пока Анна Каренина в своем спектакле готовилась к броску под поезд, я украдкой с интересом поглядывал на генерала. Это был красивый мужчина лет семидесяти пяти, с правильными, пожалуй чересчур уж правильными, чертами лица. Преклонный возраст обычно смывает у большинства людей основные черты индивидуальности и сглаживает их. В выражении же его лица, в движениях, в походке, несмотря на возраст, не было заметно и тени усталости или лени. Чувствовалось - это мужественный человек. Громадные серые глаза смело смотрели из-под черных ресниц. Линии рта были замечательно тонко изогнуты, а в середине верхняя губа опускалась на крепкую нижнюю острым клином; и все вместе, а, особенно, в соединении с твердым умным взглядом составляло впечатление такое, что нельзя было этого лица не заметить.
Я просто был поражен его выдержкой. За все время встречи генерал не проронил ни единого слова, по-видимому тоже дав себя клятву. Зато вся богатейшая палитра эмоций отражалась на его благороднейшим лице. В этом человеке поистине было нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч километров.
А завуча Каренину остановить было невозможно:
- Если бы не многолетний боевой опыт и интуиция артиллериста генерала Бородина, то, по-видимому, милиция до сих пор безуспешно искала бы снайпера, а ты, Артем, продолжал бы свои дикие эксперименты.
Лицо Федора Константиновича несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом как волна пробежала по его лицу и разгладила морщины.
Анна Митрофановна продолжала, перейдя, как мне показалось, к последнему действию.
- Главное это правильно оценить степень вины вашего сына. Вы знаете в чье окно он попал? Это один из самых заслуженных людей Ворошиловского района. Федор Константинович Бородин, гвардии генерал, ветеран Великой Отечественной войны, имеет девятнадцать правительственных наград и т.д.
Мне было понятно все, кроме одного. Сын мой действительно виноват и неоспоримо должен быть наказан, но какое имеет значение должность и звание пострадавшего. А если бы он был ефрейтором без единого значка или вообще просто рядовым гражданским человеком: гинекологом, например, или трубочистом? Мера наказания уменьшилась бы? Она даже пригрозила выгнать Артем из школы. Тут я фыркнул... поперхнулся... из глаз ручьем потекли слезы... выхватил из кармана носовой платок... и якобы закашлялся. Обалдевшая завуч схватилась за графин с водой и стала наливать мне в стакан. У нее при этом так дрожали руки, что стакан вот-вот мог разбиться. Я знаком ее успокоил, извинился, и еле придя в себя, заставил себя расслабиться.
Что же произошло?
А на меня просто напал смех, я вспомнил, как всегда, не вовремя старый одесский анекдот: "После родительского собрания Семен Маркович сокрушался:
- Выгнать из школы моего Шлему только за то, что он разбил стекло! И ладно бы, если большое, лобовое в директорской "Волге". А то ведь совсем маленькое в учительских очках!"
Завуч, взглянула на часы и торопливо продолжила:
- Внук Федора Константиновича, пятиклассник Игорь Бородин - гордость нашей школы, круглый отличник, висит на школьной Доске Почета, занимается сразу в трех кружках. Мечтает стать артиллеристом. А ты, Артем, только позоришь нашу школу!
У меня промелькнуло скромное желание опустить наконец Каренину на рельсы.
Тут раздался резкий звонок, по-видимому, на очередной урок. Завуч была просто счастлива, что своим выступлением четко уложилась в намеченный регламент. "Все, спектакль окончен!" извещал весь ее вид. Она залпом выпила стакан воды, предназначенный мне, извинилась перед нами, попрощавшись с генералом за руку, и упорхнула своей куриной походкой на урок, прихватив с собой Артема.
В коридоре, оставшись наконец без Карениной, Федор Константинович весьма деликатно вручил мне свою визитную карточку, заявив, что я в любое удобное для меня время могу зайти к ним для замера окон, что я и сделал буквально на следующий день - в пятницу.
А в субботу, 16 апреля, в день рождения моей супруги, я вместе с ней и с четырьмя стеклами подмышкой явился к генералу выполнять свои обязательства. Наш стрелок наотрез отказался участвовать в важном мероприятии. Он пообещал после школы руководить операцией с нашего балкона.
Федор Константинович и его супруга встретили нас в адидасовских спортивных костюмах. Самое смешное, что и мы, не договариваясь, явились тоже в спортивных нарядах. Такое впечатление, что намечался не ремонт стекол, а межквартальная товарищеская встреча по вольной борьбе. Генерал очень изменился за эти два дня. Появилась какая-то растерянность и неловкость в движениях, неуверенность походки, как после тяжелого сердечного приступа. На лице едва заметный налет грусти и разочарования. С ним явно что-то произошло, его прямо будто подменили. Все в его фигуре, начиная от усталого взгляда до тихого мерного шага, представляло резкую противоположность с его маленькой оживленной женой. Марья Михайловна очень приветливо предложила снять нам свои куртки и помогла даже отнести стекла в столовую. Федор Константинович категорически был против участия моей жены в недостойной стекольной работе и Марья Михайловна гостеприимно пригласила ее на кухню пить чай.
Мы рьяно принялись за дело. Первый час проработали молча, причем так быстро и слажено, будто мы лет двадцать прослужили стекольщиками в одной передовой бригаде. После перекура генерал заговорил. Я бы не сказал, что у нас была уж очень оживленная беседа и тем не менее, отрывки мудрых изречений Федора Константиновича надолго запали мне в душу.
- Я уже десять лет, как демобилизовался из армии и в основном провожу время в семье. За последние годы я стал замкнутым и более чувствительным и это объяснимо. Как благодаря постоянному пребыванию дома наше тело становится восприимчивым к внешним влияниям, что заболевает от малейшего холодного ветерка, точно так же при постоянной замкнутости и одиночестве душа наша приобретает такую чувствительность, что незначительные случаи, слова, даже, пожалуй, одна игра чужой физиономии способны обеспокоить или оскорбить нас.
- Федор Константинович! Скажите, а какая литература вам сейчас по духу? Я заметил, что у вас великолепная библиотека, полные собрания сочинений Толстого, Ницше, Шопенгауэра.
- Философами XIX столетия увлекся я сравнительно недавно, а вообще очень люблю Чехова. В молодые годы сам писал небольшие рассказы, но так и не удалось, к сожалению, их напечатать. Война перечеркнула все наши планы. Сейчас надеюсь кое-что отредактировать и дописать. В пожилом возрасте нет лучшего утешения, чем сознание того, что мы мечты своей юности воплотили в творения, не стареющие вместе с нами.
Артур Шопенгауэр писал, что нашу жизнь можно сравнить с вышиванием, в которой каждому в течение первой половины своего века приходится видеть лицевую сторону, а в течение второй - изнанку: последняя не столь красива, зато поучительнее, так как позволяет видеть связь всех нитей...
- Скажите, а с друзьями вы часто общаетесь?