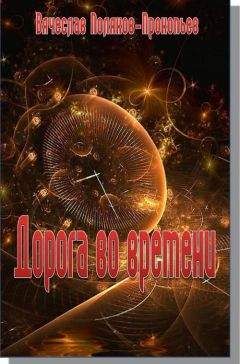Высокий и рыжий, бросившие Немовецкого в ров, постояли немного, прислушиваясь к тому, что происходило на дне рва. Но лица их и глаза были обращены в сторону, где осталась Зиночка. Оттуда послышался высокий, придушенный женский крик и тотчас замер. И высокий сердито воскликнул:
— Мерзавец! — и прямиком, ломая сучья, как медведь, побежал.
— И я! И я! — тоненьким голоском кричал рыжий, пускаясь за ним вслед. Он был слабосилен и запыхался; в борьбе ему ушибли коленку, и ему было обидно, что мысль о девушке пришла ему первому, а достанется она ему последнему. Он приостановился, потер рукой коленку, высморкался, приставив палец к носу, и снова побежал, жалобно крича:
— И я! И я!
Темная туча уже расползлась по всему небу, и наступила темная, тихая ночь. В темноте скоро исчезла коротенькая фигура рыжего, но долго еще слышался неровный топот его ног, шорох раздвигаемых деревьев и дребезжащий, жалобный крик:
— И я! Братцы, и я!
В рот Немовецкому набралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что он почувствовал, придя в сознание, был густой и спокойный запах земли. Голова была тупая, словно налитая тусклым свинцом, так что трудно было ворочать; все тело ныло, и сильно болело плечо, но ничего не было ни переломано, ни разбито. Немовецкий сел и долго смотрел вверх, ничего не думая и не вспоминая. Прямо над ним свешивался куст с черными широкими листьями, и сквозь них проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросив ни одной капли дождя и сделав воздух сухим и легким, и высоко, на середину неба, поднялся разрезанный месяц с прозрачным, тающим краем. Он доживал последние ночи и светил холодно, печально и одиноко. Небольшие клочки облаков быстро пронеслись в вышине, где продолжал, очевидно, дуть сильный ветер, но не закрывали месяца, а осторожно обходили его. В одиночестве месяца, в осторожности высоких, светлых облаков, в дуновении неощутимого внизу ветра чувствовалась таинственная глубина парящей над землею ночи.
Немовецкий вспомнил все, что произошло, и не поверил. Все случившееся было страшно и непохоже на правду, которая не может быть такой ужасной, и сам он, сидящий среди ночи и смотрящий откуда-то снизу на перевернутый месяц и бегущие облака, был также странен и непохож на настоящего. И он подумал, что это обыкновенный страшный сон, очень страшный и дурной. И эти женщины, которых они так много встречали, были также сном.
— Не может быть, — сказал он утвердительно и слабо качнул тяжелой головой. — Не может быть.
Он протянул руку и стал искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ее не было, сразу сделало все ясным; и он понял, что происшедшее не сон, а ужасная правда. В следующую минуту, замирая от ужаса, он уже карабкался вверх, обрывался вместе с осыпавшейся землей и снова карабкался и хватался за гибкие ветви куста.
Вылезши, он побежал прямо, не рассуждая и не выбирая направления, и долго бежал и кружился между деревьями. Так же внезапно, не рассуждая, он побежал в другую сторону, и опять ветви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сон. И Немовецкому казалось, что когда-то с ним уже было нечто подобное: тьма, невидимые ветви, царапающие лицо, и он бежит, закрыв глаза, и думает, что все это сон. Немовецкий остановился, потом сел в неудобной и непривычной позе человека, сидящего прямо на земле, без возвышения. И опять он подумал о фуражке и сказал:
— Это я. Нужно убить себя. Нужно убить себя, если даже это сон.
Он вскочил и снова побежал, но опомнился и пошел медленно, смутно рисуя себе то место, где на них напали. В лесу было совсем темно, но иногда прорывался бледный месячный луч и обманывал, освещая белые стволы, и лес казался полным неподвижных и почему-то молчащих людей. И это уже было когда-то, и это походило на сон.
— Зинаида Николаевна! — звал Немовецкий и громко выговаривал первое слово, но тихо второе, как будто теряя вместе со звуком надежду, что кто-нибудь отзовется.
И никто не отзывался.
Потом он попал на тропинку, узнал ее и дошел до поляны. И тут опять и уже совсем он понял, что все это правда, и в ужасе заметался, крича:
— Зинаида Николаевна! Это я! Я!
Никто не откликался, и, повернувшись лицом туда, где должен был находиться город, Немовецкий раздельно выкрикнул:
— По-мо-ги-те!..
И снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда перед самыми его ногами всплыло белое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка.
— Господи! Что же это? — с сухими глазами, но голосом рыдающего человека сказал Немовецкий и, став на колени, прикоснулся к лежащей.
Рука его попала на обнаженное тело, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и с содроганием Немовецкий отдернул ее.
— Милая моя, голубочка моя, это я, — шептал он, ища в темноте ее лицо.
И снова, в другом направлении он протянул руку и опять наткнулся на голое тело, и так, куда он ни протягивал ее, он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под прикасающейся рукой. Иногда он отдергивал руку быстро, но иногда задерживал, и как сам он, без фуражки, оборванный, казался себе ненастоящим, так и с этим обнаженным телом он не мог связать представления о Зиночке. И то, что произошло здесь, что делали люди с этим безгласным женским телом, представилось ему во всей омерзительной ясности — и какой-то странной, говорливой силой отозвалось во всех его членах. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он тупо уставился на белое пятно и нахмурил брови, как думающий человек. Ужас перед случившимся застывал в нем, свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное.
— Господи, что же это? — повторил он, но звук был неправдивый, как будто нарочно.
Он нащупал сердце: оно билось слабо, но ровно, и когда он нагнулся к самому лицу, он ощутил слабое дыхание, словно Зиночка не была в глубоком обмороке, а просто спала. И он тихо позвал ее:
— Зиночка, это я.
И тут же почувствовал, что будет почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаив дыхание и быстро оглянувшись кругом, он осторожно погладил ее по щеке и поцеловал сперва в закрытые глаза, потом в губы, мягко раздавшиеся под крепким поцелуем. Его испугало, что она может проснуться, и он откачнулся и замер. Но тело было немо и неподвижно, и в его беспомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, неотразимо влекущее к себе. С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на нее обрывки ее платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали ее. Здесь было пиршество зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри.
— Это я! Я! — бессмысленно повторял он, не понимая окружающего и весь полный воспоминанием о том, как он увидел когда-то белую полоску юбки, черный силуэт ноги и нежно обнимавшую ее туфлю. И, прислушиваясь к дыханию Зиночки, не сводя глаз с того места, где было ее лицо, он подвинул руку. Прислушался и подвинул еще.
— Что же это? — громко и отчаянно вскрикнул он и вскочил, ужасаясь самого себя.
На одну секунду в его глазах блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Он старался понять, что это тело — Зиночка, с которой он шел сегодня и которая говорила о бесконечности, и не мог; он старался почувствовать ужас происшедшего, но ужас был слишком велик, если думать, что все это правда, и не появлялся.
— Зинаида Николаевна! — крикнул он, умоляя. — Зачем же это? Зинаида Николаевна?
Но безгласным оставалось измученное тело, и с бессвязными речами Немовецкий опустился на колени. Он умолял, грозил, говорил, что убьет себя, и тормошил лежащую, прижимая ее к себе и почти впиваясь ногтями. Потеплевшее тело мягко поддавалось его усилиям, послушно следуя за его движениями, и все это было так страшно, непонятно и дико, что Немовецкий снова вскочил и отрывисто крикнул:
— Помогите! — И звук был лживый, как будто нарочно.
И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя, плача, чувствуя перед собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Немовецкого не было. Немовецкий оставался где-то позади, а тот, что был теперь, с страстной жестокостью мял горячее податливое тело и говорил, улыбаясь хитрой усмешкой безумного:
— Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя.
С той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал:
— Я люблю тебя. Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу. Я люблю тебя, люблю, люблю.
Он крепче прижал к себе мягкое, безвольное тело, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать: