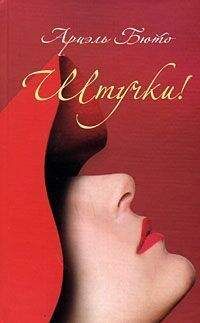Перед деревянной скамьей с аккуратной, нарезанной большими кубами сушеной дыней я стояла так долго, что молодой веселый узбек в черно-белой тюбетейке отрезал ножом кусок и протянул мне: "Эй, кизимка!" - на что я, в ужасе замотав головой, попятилась и побежала через базарчик.
- Что так долго? - спросила мама, открыв дверь. - Зазанималась?
"Бедная мамочка..." - подумала я, почему-то очень жалея ее. Мы пообедали без папы, который в тот день задержался на работе, и я стала молча собирать со стола.
Видя, что я иду мыть посуду, мама, как всегда, на всякий случай сказала: "Вымой посуду..." - и я совсем не разозлилась. По-видимому, на мытье посуды у меня ушла львиная доля энергии, потому что я вдруг почувствовала, что больше не могу.
Я зашла в комнату, где мама проверяла ученические контрольные, и как-то вяло, на выдохе, сказала:
- Мам, я воровка...
- Чего-чего? - спросила мама, подняв от тетрадей голову и засмеявшись. "Бедная мамочка!" - опять подумала я и повторила:
- Я украла губную помаду. Вот, - и положила на стол записку.
По мере того как мама читала записку, лицо ее все больше вытягивалось и мне становилось все жальче и жальче ее, а заодно и себя тоже.
- Три шт. губной пом., возместить три руб., воспитанием реб., - как-то странно сказала мама. - Чудесно...
Потом в комнате наступила очень тихая тишина, и мне стало так плохо, что я не могла на маму смотреть.
- Отцу будем говорить? - спросила мама. С таким же успехом можно было спросить у преступника, сажать его на электрический стул или, может быть, не надо...
С отцом были шутки плохи. Отец и уши мог надрать, чего доброго. Но я пожала плечами и ничего не сказала.
- Слушай, а зачем тебе эта ерунда была нужна? - недоуменно спросила мама.
- Не знаю... - сдавленно прошептала я и заплакала. Теперь я и в самом деле не знала, зачем мне нужны были те штучки.
- Ну да, - растерянно сказала мама, - понимаю. Я ведь не крашу губы, тебе это было в диковинку...
Беседы о вреде воровства у нас так и не получилось. Кажется, мама все-таки рассказала отцу эту историю, уже не помню, не это главное.
Главным было то, что много лет подряд после этого случая, даже в юности, я продолжала носить в себе страшную тайну своей порочности. И когда при мне кто-нибудь рассказывал, что где-то кого-то обокрали и унесли ценностей на три тысячи, я каждый раз внутренне вздрагивала и думала: "А ведь я тоже... такая..."
И боялась, когда меня оставляли одну в чужой квартире хотя бы на минуту. Я боялась, что во мне проснется таинственная графская болезнь.
Такой страшной силы заряд презрения к себе сообщила мне мягкая ленивая женщина, превосходно игравшая изящную пьесу Бетховена "Элизе".
Само собой разумеется, что после этого случая я перестала брать уроки музыки в маленьком доме за зеленой калиткой. Впрочем, для жертвоприношений музыкальному идолу у нас в семье мамой было придумано кое-что иное. Но это уже совсем, совсем другая история.
1979