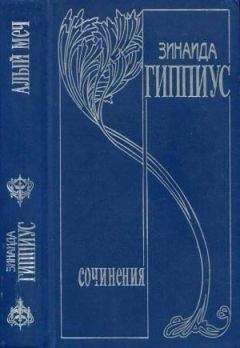Он уже пересек Литейную. И вдруг, впереди, он увидел совершенно ясно и бесспорно – Люсю, ее тонкую, узкую фигуру в черном, даже низкий узел черных волос увидал и узнал. Она шла медленно, не оборачиваясь. Рядом с ней шел Антон Семенович, статный, быстрый, в легком пальто. Он что-то говорил, жестикулируя, с обычной горячностью.
Алексей Иванович, даже если б Люся была одна, не смог бы сразу подойти к ней. Он и забыл, что к ней нужно подходить. Он так остро хотел ее найти, увидеть, что, – казалось, – уже все его желания исполнились. Только бы теперь не потерять.
И он медленно двигался за ними, стараясь не уменьшать и не увеличивать расстояния.
Но вдруг, против Троицкой улицы, Люся остановилась. Антон Семенович тоже остановился, продолжая говорить. Вероятно, ему нужно было еще в Троицкую, и он звал ее с собою. Но дело, по-видимому, не особенно важное, потому что скоро Меньший кивнул головой, улыбаясь, еще что-то сказал и направился один, через Невский, к Троицкой.
Люся медленно повернулась и пошла назад, прямо на Алексея Ивановича, который остановился и ждал.
Она смотрела вниз и увидала его, только подойдя совсем близко. Лицо ее вдруг изменилось, испуганное и страшно радостное, все розовое от испуга и радости.
– Это вы? А Федя? Вы еще здесь? Еще не уехали? Как будто она не знала, что они уедут только вечером. Алексей Иванович тоже потерялся, когда она заговорила.
Слишком долго и упорно он ее искал, слишком нужно ему было ее найти.
Люся уже оправилась.
– Ну, я рада, что еще встретила вас. Вы куда шли? Не торопитесь?
– Нет. Я все за вами шел. У вас был, потом в типографии. Потом за вами все шел.
Она опять вспыхнула, но тотчас же сказала, почти спокойно:
– Ведь ничего не случилось? Где Федя?
– Федя там, на улице ждет, у церкви. Он очень устал. Мы к нему пойдем.
– К нему?
– Да, он ждет… проститься. Люся не ответила и не двигалась.
– Что ж, пойдемте?
Она взглянула на него растерянно и молча пошла. Они повернули на Фонтанку, не переходя Аничкова моста. Шли молча, медленно, едва-едва. Люся еще замедлила шаги.
– Алексей Иванович, – чуть слышно сказала она. – Надо ли?
– Что надо ли?
– Да вот, к Феде. Проститься, вы сказали.
– Если б я не нашел вас… Вы бы не пошли? Она испуганно взглянула на него.
– Да… Я думала… Я хотела… Но не пошла бы. Нет, нет, не пошла бы. Господи! Неужели в вас жалости ко мне нету? Не пошла бы и теперь не пойду.
Но она не остановилась. Алексей Иванович сказал:
– Должно быть нет жалости, ни к себе, ни к вам. Ну, не надо к Феде идти… прощаться. А совсем?
Она опять покраснела, но не удивилась, точно давно понимала, о чем они говорят.
– Люся, у меня больше нет никаких слов. Да и о чем нам говорить. Знаю все, что в вашей душе, как вы знаете, что в моей. Разве я с вами борюсь? В вас самой два желания; вот надо только понять, которое больше. Только своему желанию можно – и должно – покориться.
Кругом было солнечно и тихо. Ровный гул шел с окрестных улиц.
– Даже все равно, что вернее, остаться или ехать, – сказал опять Алексей Иванович. – Вернее то, что дороже.
Она молчала.
– Люся, может быть, все в том, что вы нас не любите.
– Я не люблю?
– Нет, знаю, любите, только одной душой, а не всем существом. Вот как Федя вас любит, кровью любит, всю вас любит, завитки ваших волос, ваш голос, ваши руки… И я, я верю, мог бы… Нет, нет, молчите, вы не знаете, что я думаю. Я и сам ничего не знаю о той любви, которою мог бы вас любить. Я только люблю ее, мысль о ней люблю. А мы такие люди, что нам нужно, прежде человека, любить нашу любовь к нему. Если мы любим, а любовь свою ненавидим и мучаемся ею – это не наша истинная любовь, это грех, это мука, это все равно гибель.
– О чем вы говорите? – сказала Люся быстро, почти враждебно. – О ком?
– О себе. Я любил… красивую девушку. Очень любил. Я и теперь, может, еще люблю ее. Но любовь свою ненавидел, потому что она шла мимо моих первых, самых дорогих, желаний. И я ушел… Люся, Люся, да что обо мне, не стоит, ну любил, люблю и ушел… Не слушайте, Люся, мне было легко уйти, все вздор, я молчу. Вы себя слушайте. О, если бы тишины вокруг нас!
Он умолк, и опять они шли. Уже на левом берегу засерели деревья. И вдали, в глубине, темным облаком поднимались нагие липы Летнего сада.
Люся все замедляла шаги.
– Где Федя ждет?
– У церкви, на тротуаре. Теперь близко. Она попыталась улыбнуться и пошутить.
– Алексей Иванович, ведь это ужасно нежизненно и романтично. Вы точно похитить меня собираетесь. Вы бы рассудили: ну как это так вдруг, сразу на поезде, точно бегство. И вы не подумали: дорого ли стоит мое согласие, если соглашусь? Поймали меня на улице, ведете, как пленницу… Скорей, скорей, а то опять томление, опять перерешите. Да ведь я и оттуда могу сбежать… к Меньшину, – прибавила она смело. – Нет, бросьте меня, Алеша.
Алексей Иванович взял ее за руку, с робкой нежностью. Она не отнимала руки и шла вперед.
– Мы оба все знаем, Люся, – сказал он. – Если теперь… то навсегда. Что дороже вам? Что дороже – то и вернее.
Она улыбнулась и не ответила, и все шла, быстро. Темная туча деревьев выросла, цепи моста резали солнечное небо перед ними.
– Федя здесь?
– Да. Сейчас. В этой улице. Вон угол церкви. Коричневая.
Люся глянула направо, в улицу, полную желтого солнечного дыма. Солнце уже опускалось к краю неба, и лучи становились отложе и длиннее.
Алексей Иванович хотел повернуть, но не посмел. Сердца, удары которого он слышал сквозь уличный шум, теперь он в себе больше не чувствовал. Точно опустело в нем.
Люся еще раз взглянула направо – и вдруг остановилась, и руку свою вырвала почти грубо.
– Не могу, – сказала она. – Нет, не могу.
Она прислонилась к железной решетке набережной и смотрела вниз, в воду. Вода была черная, тяжеловатая, холодная и простая. Наискосок, на другом, недалеком, берегу, круглился еще мост, под ним вода была темнее и тяжелее. Нагие деревья от солнца казались спящими, а не мертвыми. Только одни колеса гремели. А люди шли молчаливо, чужие друг другу, не замечая друг друга.
Алексей Иванович не смотрел на Люсю.
– Я не могу, – повторила она. – Вы видите, не могу. Ведь вы видите?
Тупая настойчивость была в ее голосе. Точно она сама не слышала, что говорит.
– Не знаю, Люся. Нет у меня никаких слов.
И слов, действительно, не было. Шли мгновенья, она все так же стояла, опершись на решетку. Покойно лежала внизу тяжелая вода. Связным, однообразным уличным шумом был полон воздух.
Вдруг Алексей Иванович поднял голову.
– Люся, – произнес он тихо и по-детски беспомощно. – Ведь Он сегодня воскреснет, Люся. Ради – Христа?..
XIV
Федор Анатольевич, когда Новиков оставил его, пошел было в сад, посидел на лавочке, но тотчас же его потянуло вон, к церкви, на условленное место.
– Он не может так скоро вернуться, – говорил Беляев себе, – никак не может. А все-таки лучше. Вдруг придет, а меня и нет. Чепуха выйдет.
Он упорно думал только об Алексее Ивановиче, ни о ком другом он не позволял себе думать.
Светлая стена около тротуара, широкого, насквозь была прогрета солнцем. Церковь сразу выступала вперед, суживая тротуар, в солнечном углу было еще теплее, почти жарко.
Церковь – небольшая, похожая на домовую, с подъездом, с двумя стеклянными дверями, которые отворял сторож. Сквозь низкие окна, забранные решетками, глядел сумрак и красные, маленькие пятна свечей. Федор Анатольевич прошелся раза два и опять вернулся к церковным дверям, к солнечному углу. Люди шли и ехали мимо. Цепи моста, вдали, едва золотились в солнечном тумане. Темным облаком вставали за мостом, за решеткой канала – серые деревья садов. И вся улица, прямая, длинная, была похожа на широкий золотой мост, которому ни справа, ни слева не было концов.
Прошел час, прошло больше, а Федор Анатольевич все ждал, то стоя у двери, в углу, то прохаживаясь по тротуару, мимо церковных окон со свечками.
«Ни за что он так скоро не придет, – опять думал Беляев. – Странно было бы и ждать. Раньше, чем солнце начнет садиться, он не придет».
Федор Анатольевич очень устал, но потом, оттого что ждал уже слишком долго, забыл, что устал и совсем ничего не чувствовал. Он даже забыл, что ждет, а все ходил и стоял, не думая о времени.
Кусок набережной канала, решетка, даже круглый, дальний мост были видны от церковных дверей. Люди шли с набережной, поворачивали направо, в улицу, или налево, к саду.
Все больше людей становилось к вечеру. Солнце стояло еще высоко, но лучи были острее, желтее, отложе, стекла окон пылали нестерпимо, – не близко в улице, – улицу солнце низало вдоль, – а там где-то, далеко, и дома-то не видно было, а только пламя стекол.
Федор Анатольевич долго не мог отвести глаз от пылающей точки. А когда отвел и опять взглянул на канал, в сторону моста, – он увидал на Набережной, у чугунных перил, Алексея Ивановича и Люсю. Сначала Беляев подумал, что ошибся, но это были точно Люся и Алексей Иванович, и они не шли, а стояли. Говорят ли они, или молчат – нельзя было разобрать, но Беляев видел, что Люся стоит, прислонившись к решетке, что оба они его не видят, да и не смотрят в его сторону.