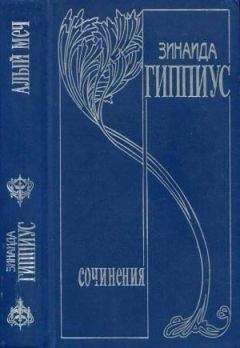Федор Анатольевич долго не мог отвести глаз от пылающей точки. А когда отвел и опять взглянул на канал, в сторону моста, – он увидал на Набережной, у чугунных перил, Алексея Ивановича и Люсю. Сначала Беляев подумал, что ошибся, но это были точно Люся и Алексей Иванович, и они не шли, а стояли. Говорят ли они, или молчат – нельзя было разобрать, но Беляев видел, что Люся стоит, прислонившись к решетке, что оба они его не видят, да и не смотрят в его сторону.
Беляев не двинулся с места. Надо было ждать, он ждал и смотрел.
Большая тесная толпа мужиков в чистеньких армяках оттеснила его, сразу наполнив церковный подъезд и заняв весь тротуар. Были и женщины, с укутанными детьми на руках и с узелками. Толпа напирала на церковные двери.
– Вы куда? – спросил сторож.
Высокий, пожилой и степенный мужик, русобородый, ответил за всех.
– А в церкву. Мы нездешние.
– К плащанице, что ль?
– Зачем. Мы к плащанице вчерась прикладались. Мы к утрени. Потому здесь, сказывали нам, опосля-то и не попасть. А мы привыкши, чтобы пение слышать. Нездешние мы, голубчик, переселенцы.
Сторож рассердился.
– К утрени! День белый, а они к утрени. Это не показано. Вон вас какое место, найдете спозаранку, так потом никому не пробраться. Ступайте-ка с Богом. Не время.
Мужик удивился.
– Не время! Мы ништо, мы обождем. Нам бы только в церкву.
– Да церковь-то у нас маленькая! Как бы вроде домовая. Господа больше бывают. Идите в собор, там паперть есть, на паперти подождете.
– Мы нездешние, – упрямо и степенно повторил высокий мужик. – Мы этих делов не знаем, где соборне, где как. Ты уж, служивый, пропусти нас в церкву-то.
– Да коли не время! – закричал сторож. – Экий народ несуразный, времени не знает.
Толпа, казалось, еще увеличилась. Слышны были женские голоса, ребенок заплакал.
К дверям подошел какой-то молодой человек, в коричневой рясе, может быть, дьякон, а может быть, и священник.
Федор Анатольевич слышал плач детей, голос сторожа, все повторяющий: «Не время», смотрел вдаль, к решетке канала, и не знал, какое минуло время. И он увидел, как узкая темная фигура Люси отделилась от решетки, как за ней двинулся Алексей Иванович и как оба они стали приближаться, вместе, и смотрели теперь в его сторону.
Подошедший человек в рясе сказал сторожу:
– Пропусти. Церковь приходская. Пусть идут. Высокий мужик перекрестился, медленно и широко.
– Слава Тебе, Господи! Сподобил Господь. Храм Божий. Храму Божьему всяк час – время.
Толпа сразу потянулась в открывшиеся двери. Когда вошел последний – дверь хлопнула.
Ни одного шага навстречу не сделал Федор Анатольевич. Ни о чем не спросил он, когда Алеша и Люся подошли к нему. Он только сказал:
– Зайдемте в церковь, – и они все тотчас же двинулись к дверям, которые сторож открыл перед ними.
В церкви тепло, темно, низкие своды, белые колонны, пахнет воском и нежной влажностью. Толпа переселенцев уже заняла почти весь притвор, женщины с детьми сидели на полу, у стен. Посередине, между колоннами, стоял на возвышении гроб с телом Христа – Плащаница.
Люся, ее брат и Алеша поклонились, поднялись на ступени и поочередно поцеловали темный холст Плащаницы.
А потом, в молчании, не сговариваясь, поцеловали все трое друг друга.
Высокий, русобородый мужик, стоявший впереди, обернулся и поглядел на них..
– Что ты? – ласково сказал ему Беляев.
– Да вот, гляжу, что христосуетесь, – деловито, вполголоса, промолвил мужик. – А ведь Христос-то воскрес еще не пели.
Ему ответила Люся и улыбнулась.
– Мы в путь нынче едем. Ночь в пути будем: как Христос Воскрес станут петь – не услышим. Нам теперь Воскрес Христос.
Мужик посмотрел-посмотрел на нее – и одобрительно кивнул головой.
– Ну… ин так, – сказал он и неторопливо вытер губы рукавом. – Христос Воскрес, коли так.
Люся ответила: «Воистину», и они трижды поцеловались. За нею похристосовались также и брат, и Алеша. Остальным они поклонились. Женщины вставали перед Люсей и кланялись.
Потом они трое взялись за руки и вышли из церкви. Солнце ослепило их.
I Вверх
О небесах всегда говорили много пустяков. Поэты описывали их приятный вид, астрономы занимались вычислениями, – каждая звезда у них под номером; обыкновенные люди глядят на небо, когда боятся, что пойдет дождь, а все вообще убеждены, что между человеческими делами и небом очень мало связи. Люди религиозные, впрочем, этого не скажут; но они смотрят на небо, как на задернутую голубую занавеску, которая сама по себе не важна, а только скрывает от них важное и с ними имеющее связь.
О небесах, как о задернутой занавеске, не буду говорить. Небо для меня живо, точно живое человеческое лицо; и оно всегда со мною, принимая самое близкое участие во всех моих мыслях и делах. Лицо неба понятнее лица земли: люди землю почти никогда не видят истинною, нагою, а больше измененною же собственными руками; да и как иначе? Небеса же чисты и очень широки, а потому и выразительны.
Я расскажу несколько отрывочных случаев из моей жизни, и будет ясно, что небеса живут с нами, говорят с нами, только мы редко слушаем их слова.
Поэты в особенности невыносимы. У них аллегорические небеса, а я вовсе не хочу аллегорических небес. Поэт описывает грозу долго, подробно, только для того, чтобы прибавить: «В душе моей часто бывают такие же грозы…». Или говорят о солнце и сравнивают его с «солнцем любви». Доктора склонны думать, что грозы влияют на человеческий организм, на внешнего человека, самым понятным образом. И все это не то.
Мы заняты своими делами, мы в нерешительности, в сомнении, – и небо с нами, улыбается, хмурится, советует, объясняет, утешает, подсмеивается – нужно только понимать его слова.
Выучиться нетрудно при внимании; особенно, если имеешь некоторые способности и склонность смотреть вверх. Я знал одну старушку, которая во всех затруднительных случаях прибегала… даже не к Библии и не к Евангелию, а к часослову. Небо гораздо шире часослова, а притом эта книга всегда раскрыта на нужном месте.
II Крыса
Я долго жил, совершенно не обращая внимания на небеса, – долго, должно быть, лет до десяти. Злился, когда с крыш текла вода, и прыгал козлом по саду, когда на песке лежали солнечные пятна, – а наверх как-то вовсе не глядел. Мы жили в деревне, в Малороссии, воспитывали меня свободно – вернее, вовсе не воспитывали, – я вечно был один, и очень был зол, упрям и туп.
Как-то раз, в воскресенье, после завтрака, я пошел к старому амбару ловить крысу, которую я там раньше заприметил. Старый амбар на задворках был единственным местом, куда мне запрещали ходить, а потому я вечно торчал у амбара.
Сегодня же это было особенно преступно, так как утром меня водили к обедне и надели мне голубую шелковую рубашку, которую, я знал, я непременно испорчу за амбаром. Рубашка, впрочем, мне нравилась, и я ее немного жалел, но делать было нечего.
У заброшенного амбара, серого с колонками, росла густая трава, почти в мой рост, кругом теснились строения, было очень уединенно, никто сюда не заходил. Я сел на корточки перед заранее намеченной дырой, под перекошенной галереей амбара, – вынул кусок измятого сыра, который стащил за столом, положил у дыры и стал ждать. Оружия у меня никакого не было, и я не знаю, как мог я надеяться поймать крысу и на что она мне, вообще, была нужна, – однако ждал и надеялся.
Я так долго ждал, что когда крыса пришла, – я совершенно обезумел и бросился на нее. Она с быстротой молнии помчалась наверх, на галерею. Я, кажется, вопя, – за ней, на гнилые доски, и ухватился за поперечную палку перил. Палка тотчас же переломилась, и я упал навзничь с порядочной высоты. Но падение только ошеломило меня, потому что я упал затылком на густую траву. Вместо крысы я держал в руках серый обломок перила. Тонкие зеленые нити колебались около меня, а прямо надо мною, только очень высоко, был кусок неба, голубой, как шелк моей рубашки. Я знал, что это – небо, но в первый раз как следует посмотрел на него, подумал о нем – и оно мне понравилось. Оно было, пожалуй, еще голубее моей рубашки и стояло надо мной так, как будто ничего не случилось. Однако оно видело, что я полетел, и мне стало стыдно. Но лежать и смотреть вверх все-таки было приятно, и я не двигался.
Главное, мне нравилось, что небо такое просторное и ничем не загромождено. Если б крыса там бегала, ей некуда было бы спрятаться, и я бы ее непременно поймал. А здесь выдумали эти амбары да норы… Хорошо тоже, что пустынно. И небо, хотя видело мое поражение, оставалось серьезным и не очень меня осуждало, так что я перестал стыдиться, и оно мне еще больше понравилось. Я взглянул на рубашку. Она порвалась на рукаве и казалась очень тусклой перед небом. Я полежал еще, потом бодро встал, оправился и опять взглянул наверх. Ну не поймал крысу, ну изорвал рубашку, а вот зато у меня теперь есть небо. Оно видело все – и ничего, осталось как было. Это хорошо, что оно теперь у меня есть.