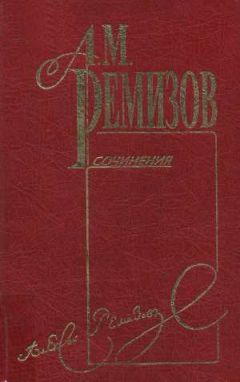В Обезьяньей Палате Шмелев занимал место благочинного: благочинный обезвелволпал митрофорный и с палицей.
– – – – –
Последние годы мы, как когда-то в Москве, снова сошлись на одной улице – я в № 7 Буало, Шмелев на другом конце – 91-ый. Между нами до оккупации Сирин-Набоков (№ 73).
В первый год оккупации (1940) спозаранку выхожу из дому за кормом. И часами стою в хвосте «беспризорных». А дождавшись своей доли – суп выдавали – тащусь домой. Или с пустой посудой, как случалось от немецких казарм – нешто с бабами можно тягаться: голодная, взгрудя, перебьет очередь или задницами оттиснут. По дороге заходил к Шмелеву передохнуть.
Шмелев писал о прошлом величии России: как на праздниках ели и какие и где в Москве можно было достать продукты. И на чем я его застигну, про то он мне и рассказывает – о балыках, о осетрине, о копченой и о свежей рыбе в садках, и лавочников перечислит и лавки. И отпуская меня, всегда пошлет Серафиме Павловне «пряничек» – что-нибудь из сладкого, что ему самому добрые люди подадут. Если даже и с пустыми руками, я принесу домой гостинец.
«Сегодня, скажу, мы как-нибудь – завтра я непременно с едой вернусь. А это – Иван Сергеевич».
Столовую для «беспризорных» закрыли, и немцы к казармам больше не подпускают. И я стал ходить по соседству, только улицу Молитор перейти, в русский ресторан. Надоел – а подавали.
Шмелев – на перепутье. Я весь день стою в очередях. И во все годы оккупации мы не встречались. Я спрашивал. «Пишет, говорят, да разве не читали его о Москве: ну, и ели ж в старину!»
Только с освобождения мы снова встретились. Я не отрекался от мира, но лезть на глаза, самому не видя глаз, лучше посидеть дома. Шмелев заходил меня проведать. И еще больше взбудораженный: «новый читатель… а негде высказаться!»
И долго не идет, я прошу кого-нибудь из соседей снести письма. Я без кофию не могу, а у Шмелева были какие-то руки и он достанет, или вернуть книгу – Шмелев брал у меня Достоевского, никому не даю.
Я заметил у Шмелева необыкновенное пристрастие к титулованным и высокопоставленным. У него голос менялся: «вчера весь вечер читал мой рассказ Великому Князю». Или «зашел ко мне генерал Деникин». И чтобы доставить удовольствие, я всегда в письмах прибавляю титул: «Баронесса Екатерина Даниловна Унбегаун», Нина Григорьевна Львова – «княжна Львова», Анна Николаевна Полякова – «графиня» (Анна Николаевна славится слоеными пирожками и поставляет Копытчику (С. К. Маковскому) свежие огурцы – для «костюмошной складки»6).
«Ну, как, говорю, Иван Сергеевич?»
– Очень любезен. Только неловко: всё меня графиня-графиня. Вы ему что-нибудь написали?
«Ничего не писал, это он из уважения».
«Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша»7 – Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев – русский писатель, который знал и вес и цену своему слову, откуда это уважение? Или как «нигилисты», так и «графиня» не без Горкина?
Мне было чего-то неловко. Всякого можно на чем-нибудь поймать, по себе знаю, но он, Шмелев, русский писатель высоких традиций…
По свежим следам Шмелев читал мне ненапечатанные главы из «Путей Небесных». Он особенно ценил эту свою хронику: тут была и московская метель, и мценский тургеневский закат. Но не метель, не закат, ему хочется слов Достоевского, как расставаясь с Алешей скажет Зосима: «Ты будешь все с несчастными и в несчастьи счастлив будешь»8, вот что-нибудь такое вклеить в слова своей героини. И Шмелев умилительно шепчет, вышептывая «истину». А никаким умилением и шепотом «истину» не превратить в мудрость.
С лицом изборожденным Стефана Георге (Стефан Георге для Германии то же, что Рэмбо для французов) Шмелев читал, теперь так и актеры бросили, с выкриком, слезой и завыванием.
Я, чтобы не подпрыгивать и не улыбнуться, рисую.
– – – – –
День был самый благоприятный. Жара. Чай медом пахнет.
В «кукушкиной» под серебром конструкций сидел африканский доктор читать свои черные авантюры: «Зунон Меджие, король ночи и лесов». У дагомейского короля было пятьсот сыновей «и все мальчики, поясняет африканский доктор, и всех африканский доктор заочно крестил по-ихнему в пальмовом вине».
«Как сейчас вижу покойного короля, начал африканский доктор, я сижу в его экзотическом дворце: так я – так король, друг против друга, и пьем пальмовую водку.»
Звонок. И стучат.
Я вскинулся к двери: «посылка!» – тогда еще можно было получать из Америки посылки без пошлины. Но это оказался не чай и не кофий, а Иван Сергеевич.
Без пальто и фланелевого шарфа, не жалуясь на подложечку, игриво сосредоточенный, словно апельсин чистя, вошел он в «кукушку». И кукушка прокуковала ему свой независимый час. Он только что окончил поэму «Центурион»9.
«Вы прочтете?»
Но он и без моего, не присев, остался вдохновенно стоять, лицом в распахнутое окно «Стефан Георге!»
Солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать. При храме живут весталки. Таинственные рощи окружают храм.
Так начинается поэма – ритм стихов в марш.
Выражаясь по-ученому, скажу мое впечатление: «драстические сцены10 – дериват11 эротического сюжета» мне показались такими скромными и без всякого матросского забора, все было построено не по «Луке»12, а смахивало на «Карташева», я перестал следить за словами и только слышу марш.
Африканский доктор скулачился и глядел подлобно: перебили «покойного короля» и за то, что Шмелев принял его за Солнцева. Но под марш, замечаю, африканский доктор причмокивает – наступила ночь.
И в ту минуту, когда целомудренные весталки начали, как скажет княжна Львова, гуртом «отдаваться» грубой силе солдат, и комната зазвучала на голоса птичника, Шмелев мастер по-птичьему, – вошел Вадим Андреев.
Дверь я забыл закрыть.
Шмелев оборвал измученную «экстазом» перепелку. Я представил.
– Вадим! Сын Леонида Николаевича! – воскликнул Шмелев (вот где подходит это затасканное «воскликнул»).
С Леонидом Андреевым Шмелев встречался «Человеком из ресторана». Леонид Николаевич был тоже «русский писатель», да еще и первый, снимался со Львом Николаевичем. Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев – золотое время русской литературы после Чехова. А Вадима Шмелев помнит, когда Вадим, старший сын Леонида Николаевича, еще под столом бегал.
В память друга и для его сына-поэта, Шмелев снова начал свой марш Центуриона: солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать.
Теперь я различаю зловещее в надвинувшейся ночи, «томительное» ожидание весталок и затаенность рощи.
Из гаража выбежал Мишка и остановился: лаять ему или не лаять? И за воротами мертвецкой показался в белом, по-рыбьи глотая свежий воздух. А ему в уши птицы.
Для Андреева Шмелев читал – в ударе.
И перебесилась ночь. С какой нечаянной радостью встретили весталки утро! С песнями покинули солдаты храм Весты.
И когда нам только и оставалось дружно «воскликнуть» браво, вошел Никитин – бывший урмийский консул, почетный легион и все персидские наречия от древнего пехлеви до современной арабской прослойки, эмир обезвелволпала. И когда я познакомил Шмелева со знатным, большой был соблазн снова начать Центурион. И если бы не африканский доктор – африканский доктор напомнил Шмелеву, что аптеки скоро закроются, и Шмелев вдруг схватился и заспешил: он всегда принимал какое-нибудь лекарство и когда болело и для предупреждения.
Я пошел провожать. Подал ему сумку. Он очень волновался – не успеет, в 7 часов закроют аптеки, а в школе пробило 7. И не прощаясь, вышел.
Я кричу на лестнице вдогонку
«Прощайте, Иван Сергеевич!»
Не обернулся. Или не дослышал.
И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару центурионом – повернул за угол. И пропал.
Первая «Берлинская волна» в Париже – зима 1923; примета. серое пальто и всегда говорят не «метро», а «унтергрунд»1. Так узнаются русские парижане берлинского происхождения. Вторая «Берлинская волна»2 – весна 1933 г., примета – по всякому поводу восклицание: «чудно» – с немецкого «wunderschön».
В первую волну докатились до Парижа старые писатели – «тертый калач» «прокрустовым» литературным навыком и «мышиональной» похваткой3 – приемами давности – революция 1905 года. Во второй волне, раскатившейся по Парижу, это те, кто во вторую революцию – 1917 г. под стол пешком ходил, но ни Керенский, ни Колчак – Деникин им ничего не говорят, и для которых берлинское «Зоо» не просто зоологический сад, а как тот чудесный сказочный сад с золотыми яблоками, который сад и во сне снится и в старости, если кому суждено дожить, вспомянется.