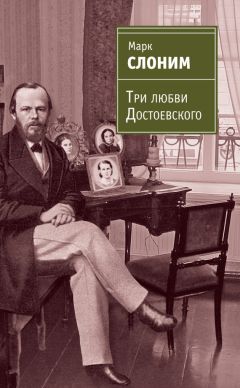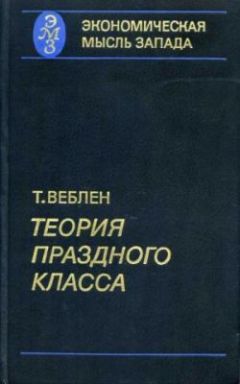Достоевский перевозил жену из Владимира в Москву, устраивал ее на новом месте, разговаривал с докторами, переписывался с братом Михаилом по поводу журнала "Эпоха", который начал выходить вместо закрытого "Времени", писал статьи, работал над "Записками из подполья", - но перед ним неотвязно вставал вопрос: как объяснить поведение Аполлинарии, что осталось в ней от прежней любви и чем кончится его связь с той, кого он теперь считал самым близким, самым дорогим ему человеком, кого готов был назвать, как никого не называл ни прежде, ни позже - "подругой вечной".
Странной и трудной была его жизнь зимой 1863 и ранней весной 1864 гг., подле умиравшей жены, за которой он ходил, облегчая последние ее дни, заботясь о ней, а, может быть, и мечтая о ее смерти, как об избавлении - и все время нося Аполлинарию и в сердце и в самых глубинах плоти. Марья Димитриевна кашляла кровью в спальной, а он ждал письма с французской маркой, от Аполлинарии, из Парижа.
Она послала ему свой новый рассказ, и он тотчас же отправил его в Петербург: "Своей дорогой", под обычными инициалами А. С-ва появился в шестой книжке "Эпохи".
Он начал писать "Игрока", в котором не только изображал свою страсть к игре и к сумасбродной молодой девушке, но даже не изменил ее имени: его героиню зовут Полина, он всегда так называл Аполлинарию. Но роман, при писании которого он вспоминает и вновь переживает недели, проведенные с нею заграницей, подвигается очень медленно. Это не удивительно: трудно ему писать о Полине, ежедневно наблюдая {167} умирание жены. Он принужден беспрерывно обманывать и притворяться, на нём всегда маска. Никто - даже брат, поверенный его романа с Аполлинарией - не знает, что происходит в нем в эти страшные месяцы. Стиснув зубы, подчинив себя твердо установленному порядку работы и домашних обязанностей, он ничем не выдавал жгучего вихря страсти и сомнений, раскаяния и сожалений, крутившегося в его душе.
С каждым днем настроение его ухудшалось: он был одинок и несчастен, он был свидетелем агонии той, кого когда-то любил, он дышал воздухом смерти и безумия. Марья Димитриевна часами сидела в кресле, неподвижно углубленная в свои думы. Потом она вдруг вскакивала, бежала в гостиную, останавливалась перед портретом мужа и, грозя ему кулаком, кричала: "каторжник, гнусный каторжник!" Бывали дни, когда ненависть ее превращалась в остервенение, и затем исчезала без следа. Ее часто мучили галлюцинации, кошмары, в последние недели перед смертью она стала полубезумной, с редкими мгновениями просвета.
Вести из Парижа тоже не могли принести Достоевскому утешения. То, что Аполлинария сама писала ему, и то, что он угадывал между строк или из обмолвок, усиливало его печаль. Он любил ее всё сильнее, а она всё дальше уходила от него, линии их судеб намечались совсем по-разному. Иной раз они ссорились в письмах, почти с таким же пылом, как недавно в Италии. Переписка их была очень оживленной, до нас, однако, дошла ничтожная ее часть, большинство же писем пропало или погребено в неведомых архивах. Достоевский понимал, что в Аполлинарии назревает какой-то душевный перелом, а помочь не мог: их разделяли тысячи верст, ему вырваться заграницу до лета не было никакой возможности, а она не хотела возвращаться в Россию.
После их расставания в Берлине Аполлинария {168} вернулась в Париж. Первое время она еще была занята Сальвадором: думала о том, как ему "отомстить" или как его вернуть, но из всех ее попыток ничего не вышло, и ее снедали тоска и скука. Запада она не любила, и ее отрицательное отношение к европейской действительности порою отражало желчные взгляды Достоевского относительно чванной пустоты французов и тупого самодовольства немцев. Она пишет: "до того всё, всё продажно в Париже, всё противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: "этот народ погибнет!"
Ее возмущают французские идеалы денежного благополучия и устроенности: "я бы их всех растерзала". Порою, когда ей опостылевают французы, она мечтает о поездке в Америку, на новый континент. В пансионе, где она снимает комнату, поселяется двое американцев: "они мне нравятся, особенно один: лицо такое энергическое и серьезное. Он на меня смотрел внимательно и серьезно, в это время и я на него смотрела. Это, должно быть, люди, слава Богу. Но, может быть, я не сойдусь с ними".
Это не праздный вопрос: она действительно с трудом сходится с людьми и не знает, что с собой делать. Сердце ее ожесточено, у нее нет определенного места в жизни, и она ищет новых лиц и впечатлений. Чтобы развлечься, она холодно использует мужчин, попадающихся на ее пути. "После долгих размышлений, я выработала убеждение, что нужно делать всё, что находишь нужным".
Она флиртует с пожилым англичанином, с медиком голландцем, говорящим по-русски (очевидно, с братом того самого революционера Бенни, о котором так трогательно и живо написал Лесков), с грузином Николадзе, с французом Робескуром - на глазах у его жены - и вся эта международная коллекция дает ей лишь одно удовольствие - сознание собственной власти над влюбленными в нее поклонниками. Она точно скована - {169} своей силой, которую некуда применить, своими ненужными любовными победами. Она знакомится с двумя известными русскими писательницами, проживающими в Париже - графиней Салиас де Турнемир (Евгения Тур) и Маркевич (Марко Вовчок). С первой она дружит и показывает ей свои беллетристические опыты. Но таланта у нее нет: ее рассказы сухи, бесцветны, написаны дурным языком. Она совершенно лишена чувства формы и стиля, как и многие авторы и критики этой эпохи, отличавшейся необыкновенной эстетической скудостью.
Вероятно, в эти месяцы она пишет повесть "Чужая и свой" ("Чужая и свой" не было нигде напечатано и сохранилось только в рукописи.). Герой ее, Лосницкий, приезжает к своей возлюбленной, 22-х летней Анне Павловне, и у них повторяется со всеми подробностями сцена встречи между Аполлинарией и Достоевским в Париже, при чем Суслова употребляет выражения, записанные в ее дневнике или письмах: "зачем ты приехал, - говорит Анна Павловна, - ты приехал немножко поздно" и т. д. В точности воспроизведен и эпизод с Достоевским, желавшим поцеловать ей ногу. Лосницкий женится, но затем едет на юг Франции, где живет больная Анна Павловна, и преследует ее своей страстью. Когда он весел, он рассказывает ей о своих прежних похождениях и замечает, что "подобные отношения мужчины к женщине очень естественны и извинительны, и они даже необходимы, и не только не мешают высокой любви к другой женщине, но даже еще и увеличивают и поддерживают ее. К сожалению, ни одна женщина не в состоянии этого понять". Аполлинария, несомненно, слышала схожие речи из уст Федора Михайловича.
В конце повести Анна Павловна бросается в реку. Это самоубийство отражало мрачное настроение автора в начале 1864 года. Каждая новая встреча усиливала ее неудовлетворенность, она расточала себя в бесплодной игре с десятками мужчин, и ничем не могла {170} увлечься до конца - ни радикальными идеями, распространенными в кругу графини Салиас, ни нигилистской рассудочной деловитостью, которой щеголяли приезжавшие из России молодые люди.
Она встречается с революционерами, но не может к ним пристать, и остается одинока в собственном невеселом и замкнутом мире.
{171}
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Достоевский надеялся, что 1864 год принесет ему удачу, а на деле он оказался одним из самых тяжелых и несчастливых. В апреле умерла Марья Димитриевна, а в июле - любимый брат и товарищ по литературным предприятиям, Михаил (Михаил Михайлович Достоевский был на год старше Федора Михайловича. Он долго болел и умер 44 лет от роду.). В сентябре скончался видный сотрудник "Эпохи" и друг Достоевского, критик и поэт Аполлон Григорьев. Достоевский писал впоследствии Врангелю:
"Бросился я, схоронив ее (Марью Димитриевну), в Петербург, к брату, он один у меня оставался, но через три месяца умер и он. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было всё, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, всё чуждое, всё новое, и ни одного сердца, которое могло бы мне заменить тех обоих. Стало вокруг меня холодно и пустынно".
Аполлинария могла бы стать этим сердцем и соединить две половинки жизни, но о ней Достоевский не упоминает. Очевидно, даже и в письмах она не подарила ему немножко ласки. Впрочем, утешать она не умела и не хотела, о смерти Марьи Димитриевны едва ли могла жалеть, и, не вынося слабости и сентиментальности, плохо понимала горе Достоевского. Она звала его в Европу и очень сердилась, что он не приехал. Он оправдывался обстоятельствами, но такие аргументы до нее не доходили: она верила, что сильные люди умеют побеждать всякие препятствия.
{172} A y Достоевского голова шла кругом в Петербурге: он должен был заботиться о Паше, дерзком и назойливом юноше с черными напомаженными волосами и желтой кожей, он поселился с ним на одной квартире и Паша так вел его хозяйство, что денег никогда не хватало. На его руках была теперь и семья брата: вдова Михаила Эмилия Федоровна, с многочисленными детьми-подростками, считала, что Федор Михайлович должен заботиться обо всех них. К нему постоянно обращался за помощью другой его брат, Николай, страдавший острым алкоголизмом. К тому же Достоевский взял на себя все долги брата - и по журналу, и по фабрике, причем, впопыхах и в суматохе, выдавал векселя направо и налево, не разбирая претензий, и в кредиторах оказалось не мало таких, кому покойный Михаил уже раньше уплатил сполна.