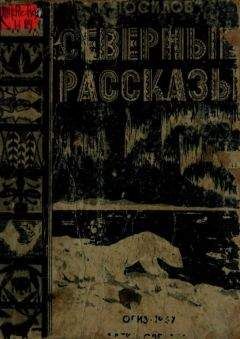Гибель, казалось, была неизбежной.
Раздался страшный рев, медведица стала на дыбы, но медвежонок бросился назад под скалу. Тогда мать, неожиданно повернувшись, также скрылась за медвежонком туда, оставив в покое прижавшихся друг к другу несчастных охотников. Потом слышно было, как медведи побежали к морю. Стало совсем тихо. Но Таня долго не могла успокоиться.
Под самое утро еще приходил один молодой медведь, но он их заметил, не решился подняться на скалу и долго, до самого рассвета, бродил около скалы, что-то нюхая и не давая заснуть утомленной, замерзшей и теперь уже равнодушной ко всему охотнице.
Утром охотники нашли под скалой, у самого подъема, наповал убитого старого медведя, обе пули попали ему в грудь, и смерть была моментальная.
Так закончилась эта памятная ночь, о которой Таня что-то не любит вспоминать и особенно рассказывать.
Но этот случай, как можно было бы ожидать, не отбил у девушки страсти к охоте. Она все скоро забыла, страсть взяла верх, и, вплоть до самого моего отъезда с острова (я прожил еще два года), мне часто приходилось слышать, что Таня попрежнему охотится, ездит за оленями, ловит в капканы песцов, стреляет в море моржей, тюленей и даже перещеголяла в охоте отца и брата.
Эту милую пару белых медвежат мне привезла Таня Логай, маленькая черноглазая самоедка.
Я давно мечтал приобрести себе пару маленьких белых медвежат. У меня в колонии уже жил молодой тюлень в кадочке с соленою водою, постоянно требовавший рыбы жалобными стонами. В комнате, как белый кот, давно уже проживал белый песец, — полярная шустрая лисичка, которая вечно ссорилась по ночам с моим псом из-за места на моей постели. На вышке домика привезенные еще осенью жили сизые голуби, залетавшие порой за кормом в комнату; был у меня белобрюхий пингвин, а в стеклянной вазе на столе моего кабинета жила парочка милых леммингов, но до сих пор не было у меня этих пассажиров льдов, — и вот они у меня, и моя коллекция пополнена, и все мы страшно этому рады.
Когда живешь по целым годам на таком пустынном острове, не видя по году свежего человека, почти один, на берегу моря, не получая по десяти месяцев в году письма, поневоле окружаешь себя вместо людей обществом животных, потому что все же они скрашивают жизнь и заменяют собой недостающее общество, не говоря уже о том, как приятно бывает наблюдать их.
И вот это общество не то пленников, не то свободных граждан полярной земли увеличилось милой парой белых медвежат, которых привезла нам молодая девушка.
Не знаю, как это случилось, что мы сразу, как только их пригласили в кухню покормить, прозвали их почему-то „инженерами“. Потому ли, что нам было смешно, как они серьезно стали обнюхивать стены нашего жилища, потому ли, как они потешно, с осторожностью, словно какие эксперты, обошлись с горшком щей, который мы им предложили на первое время, или почему иному, — я не помню; но помню что это прозвище так всем понравилось, так подошло к этой милой паре умных зверьков, что все приняли его, и даже наш „кок“, повар Мишка, взявший их под свое покровительство и, вероятно, никогда и не видавший настоящих инженеров в своем Поморье, и тот согласился с этим, и когда они с ловкостью очистили горшок щей, он сказал:
— Вот так инженеры, не надо и мыть… Настоящие инженеры!
И наши гости так и пошли с той поры за „инженеров“, даже самоеды и те звали их не иначе, как „инженерами“.
Таня Логай, тринадцатилетняя девушка, привезла нам этих „инженеров“ прямо с Карского моря, где добыли их ее отец и брат.
Старик Логай вечно жил на особицу от всех самоедов и обязательно не только на лето, но и на зиму убирался куда-нибудь подальше и, как старый песец, устраивал свою снежную нору на каком-нибудь выдающемся мысу в море. Устроится там, окопается кругом снегом и сидит со своими ребятами; а их у него было семь душ.
И оттуда, с возвышенного места, как настоящий песец, и делает набеги то на льды моря, то в горы. Выйдет из своей норы, прищурит узкие, хитрые глазки и смотрит кругом, и по мере того, как он все оглядывает, смотрят туда же и его умные псы, с которыми он охотится, и в конце концов, что-нибудь высмотрит, запряжет их — и марш и обязательно что-нибудь притащит ребятам.
Так, вероятно, было и тогда, когда он неделю тому назад, отправился в горы с своими собаками и разыскал там в сугробе снежную дыру, около которой кругом на небольшое расстояние снег был сплошь утоптан маленькими мохнатыми ножками белых медвежат, которые выходили из норы порезвиться. Мать их он тут же убил, а за ними слазил в нору, запрятал их в свою просторную пазуху и так и привез домой, к радости и восторгу своих ребятишек.
Но так как кормить их было нечем, то он сам командировал ко мне свою дочь Таню с этими кавалерами, и вот она и явилась ко мне, очень довольная поручением и возможностью напиться у меня чаю.
Она одна проехала более ста верст по Маточкину проливу и ничего, говорит, никого не боялась, потому злых людей тут не водится, а белых медведей она не боится, потому что уже не раз на них охотилась с братом и так стреляет из кремневого ружья, которое привязано ремешками к ободку санок, что даст любому из нас по очку вперед. Она только жалуется, что „инженеры“ не особенно были спокойны в дороге: никак не хотели бежать сами за санками, а когда она их сажала рядом с собой, то они были очень недовольны тем, что их встряхивало на сугробах, и рявкали, и хватались за ее расшитую сукнами и ленточками малицу, даже костюм ей подрали.
И вот, теперь она у нас в гостях, пьет чай, раскрасневшись с дороги, а ее пассажиры бродят по комнате, привлекая поминутно наши взоры то своими широкими, мохнатыми, с черными когтями лапами, которыми они боязливо, осторожно все нащупывают, то своими мордочками с черными, совсем не злыми глазами, которыми они на нас взглядывают, словно спрашивая, что это такое, и где они. Их не стесняет наше шумное общество, а также любопытный песец, который осторожно обнюхивает их сзади: если что им кажется подозрительным, так это присутствие пса-леонбергера, который не особенно приветливо их встретил еще на улице, а здесь в комнате положительно ревнует, особенно, когда мы выставили им горшок щей.
* * *
И вот Таня получает за „инженеров“ бутылку доброго вина, деньги для ее отца, себе за труды — красный платок, разные мелочи для маленьких братьев, в придачу еще мешок крупы в гостинцы своей матери и едет на свою „Карскую сторону“, и наши „инженеры“ остаются у нас и делаются жителями нашей маленькой, одинокой колонии на берегу моря.
Матросы делают для них ледяной домик; наш кок Мишка заказывает самоедам достать тюленьего жира побольше для варева, и „инженеров“ мы садим в ледяной дворец, привязываем на цепи на ночь, чтобы они не отправились на пловучих льдах отыскивать свою молодую хозяйку.
Это необходимо, как говорят наши самоеды, потому, что собаки нашей колонии еще не привыкли к новым жителям и могут их задрать. Но эта предосторожность скоро делается излишней: „инженеры“ так привязываются к нам, что нет смысла их держать и ночью на привязи, днем же они и не думают от нас отходить. Если они удалились немного, то стоит только послать Мишку: он, с ловкостью пластуна, подкрадывается к ним из-за сугроба и так пугнет их вывороченной своей малицей, что они без ума, пофыркивая и порявкивая, бегут поскорее к дому, встают потешно на дыбы и убирают свои черные пяты в сени, окончательно приводя в веселое настроение всю нашу колонию. И Мишка-кок делает это так ловко и с такой любовью, потешая нас этими сценами медвежьего испуга, что „инженеры“ скоро окончательно бросают мысль о дальних прогулках и держатся уж вблизи дома, около наших собак.
Через неделю „инженеры“ — уже обычные жители колонии. Они до тонкости изучили наши привычки: когда я утром, в семь часов, добываю огонь в своем кабинете, надеваю малицу и теплые пимы и выхожу в сени с фонариком в руке, чтобы посмотреть на метеорологические инструменты, „инженеры“ уже ждут меня, жмутся ко мне, что-то рассказывая, и стараются лизнуть руки и загораживают мне путь. Они каждое утро сопровождают меня на метеорологическую будку: когда я залезаю на нее, они следуют с ловкостью акробатов туда же по лестнице; когда я отсчитываю градусники и вожусь с минимальным термометром, они стоят и смотрят, что тут такое; когда я освещаю флюгер, чтобы посмотреть и узнать, откуда и какой силы ветер, они глядят туда же; когда я спускаюсь и иду на лед, чтобы сделать отсчет морской температуры, они сидят со мной рядом у проруби; я иду к почвенным термометрам и вынимаю их из мерзлой почвы, — они присутствуют, как ассистенты, и только тогда уже бегут с радостью вперед, потешно переваливаясь и перегоняя друг друга, зная, что дело кончено, и я иду в дом и впускаю их в заповедную кухню, где спит их друг кок.