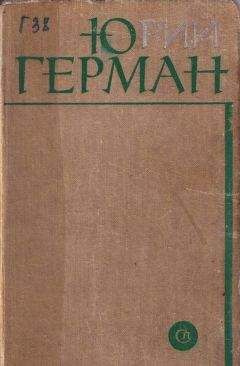И, поняв все это, Хмеля схватил первое, что попалось под руку, столовый тупой нож, и сзади ножом ударил Жмакина, но нож даже не прорвал пиджака, а Жмакин обернулся, и в руке его блеснула узкая, хорошо отточенная финка.
- Резать хочешь? - спросил он, наступая и кося зелеными глазами. - Меня резать...
Левой рукой, кулаком, он ударил Хмелю под челюсть, Хмеля шлепнулся затылком о беленую стенку и замер, потеряв очки. Его светлые близорукие и маленькие глаза наполнились слезами, он поднял ладони над головой, пытаясь защищаться, и в Жмакине вдруг что-то точно оборвалось: он понял, что с Хмелей уже нельзя драться и что это была бы не драка, а простое убийство. Матерно выругавшись, Жмакин перекрестил, по блатному обычаю, острием ножа подошву ботинка, скрипнул зубами, накинул пальто и вышел во двор. Ноги его разъезжались на обмерзшем асфальте, и ему внезапно сделалось смешно. Посвистывая, он добрался до трамвая и поехал куда глаза глядят - коротать ночь. Но эта ночь была очень плохой. Город, который мерещился ему в тайге, изменился. В нем некуда было деться, дома были сами по себе, а он сам по себе. Для чего же было так рваться сюда?
В гостях
Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенной прожекторами сцены доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой конь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью, в форме белогвардейца, со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил, а затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина:
- И на лошади уже сижу, а не слушают! Что за пьеса такая!
Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня.
- Он на самом деле слепой, - сказал Захаров Лапшину, - я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти.
Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил Ханин, приятель Лапшина.
- А, Иван Михайлович! - сказал он, блестя очками.
- Ты где пропадал? - спросил Лапшин.
- На золоте был, на Алдане, - сказал Ханин, - а теперь полечу с одним дядькой в одно место.
- В какое место?
- Это мой секрет, - сказал Ханин.
Они помолчали, поглядели друг на друга, потом журналист подмигнул и сказал:
- А ты любопытный. Пельмени будем варить?
- Можно, - сказал Лапшин.
- У меня, брат, жена умерла, - сказал Ханин.
- Что ты говоришь, - пробормотал Лапшин.
- Приехал, а ее уже похоронили.
Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом:
- Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?
Лапшин объяснил.
- Балашова? - сказал Ханин. - Позволь, - позволь! - И вспомнив, он обрадованно закивал и заулыбался. - Молодец девочка, - говорил Ханин, - как же, знаю! Она вовсе и не Балашова, она вовсе Баженова, кружковка. Я ее хорошо знал...
Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним молча до конца длинного коридора, потом, уютно посмеиваясь, стал рассказывать про Катерину Васильевну. Говорил о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину, время, о котором шла речь, было самым лучшим и самым легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончиться рассказ должен был непременно покойной женой Ханина - Ликой, и угадал.
- Ничего, Давид, - сказал он, - то есть не ничего, но ты держись. Езжай куда-нибудь подальше! Работай!
- И так далее, - сказал Ханин, - букет моей бабушки.
- Отчего же Лика умерла? - спросил Лапшин.
- От дифтерита, - быстро ответил Ханин, - паралич сердца.
- Вот как!
- Да, вот так! - сказал Ханин. - На Алдане было невыразимо интересно.
Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного - ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока Ханин не улетит.
- Послушай, Давид, - сказал он, - поедем сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо. И вообще никто не знает, что он вор.
- Как же не знает? - сказал Ханин. - Все они, перекованные, потом раздирают на себе одежду и орут; я - вор, собачья лапа! Не понимаю я этого умиления...
- Так ты не поедешь? - спросил Лапшин.
- Поеду.
Со сцены донесся ружейный залп, и в коридоре запахло порохом.
- Пишешь что-нибудь? - спросил Лапшин.
- Пишу, - угрюмо сказал Ханин. - Про летчика одного жизнеописание.
- Интересно?
- Очень интересно, - сказал Ханин, - но я с ним подружился, и теперь мне трудно.
- Почему?
- Да потому! Послушай, Иван Михайлович, - заговорил Ханин, вдруг оживившись, - брось своих жлобов к черту, поедем бродяжничать! Я тебе таких прекрасных людей покажу, такие горы, озера, деревья... А? Города такие! Поедем!
- Некогда, - сказал Лапшин.
- Ну и глупо!
Лапшин улыбнулся.
- Один здешний актер выразился про меня, что я фагот, - сказал Лапшин, - и чиновник...
Он постучал в уборную к Балашовой. Она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок.
- Ну, ну, - говорил он растроганным голосом, - тоже нежности. Скажи пожалуйста, в Ленинград приехала, а? Актриса?
У Балашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги ножницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила:
- Я так рада, Давид, так рада! Я просто счастлива.
Ладонями она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок.
- Худой какой! - сказала она. - Прошли мигрени?
- Что вспомнила! - усмехнулся Ханин.
Лапшину сделалось грустно, они говорили о своем, и ему показалось, что он им мешает. Деваться было некуда, уйти - неловко. Он сел в угол на маленький диван и не узнал в зеркале свои ноги - в остроносых ботинках.
- Вы знаете, Иван Михайлович, - обернулась к нему Катерина Васильевна, - вы знаете, что для меня Ханин сделал? Он написал в большую газету о нашем кружке и в нашу городскую - еще статью. И так вышло, что меня потом отправили учиться в Москву в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. А Лика где? - спросила она.
- Лика умерла, - сказал Ханин, - от дифтерита пять недель тому назад.
И, вытащив из жилетного кармана маленький портсигар, закурил.
- Я не поняла, - сказала Балашова. - Не поняла...
- Поедем, пожалуй, - предложил Лапшин. - Время позднее...
И, выходя первым, сказал:
- Я вас в машине ждать буду...
Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно-счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет.
- Ну, здравствуй, Евгений! - сказал Лапшин и в первый раз в жизни подал Сдобникову свою большую, сильную руку. Женя пожал ее и, жарко покраснев, сказал картавя:
- Здравствуйте, Иван Михайлович!
Этого ему показалось мало, и он добавил:
- Рад вас приветствовать в своем доме. А также ваших товарищей.
- Ну, покажись! - говорил Лапшин. - Покажи костюмчик-то... Хорош! И плечи как полагается, с ватой... Ну, знакомься с моими, меня со своей женой познакомь и показывай, как живешь...
Он выглядел в своем штатском костюме, как в военном, и Балашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней.
Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и все они пошли по коридору в комнату. Их знакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юношами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич - так его почему-то называли - совершенно пьян и держится только страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи.
- Тесть мой! - сказал про него Женя. - Маруси папаша!
Маруся была полногрудая, тонконогая, немного косенькая женщина, и держалась она так, точно до сих пор еще беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала:
- Сдобникова. Садитесь, пожалуйста.
А Ханину и Балашовой сказала иначе:
- Маня. Присядьте!
В комнате играл патефон, и задушевный голос пел:
В последний раз
на смертный бой...
Гостей было человек пятнадцать, и среди них Лапшин увидел еще одного старого знакомого, "крестника" Хмелянского.
- Производственная травма, что ли? - спросил Лапшин, разглядывая огромный запудренный синяк на подбородке и щеке Хмели. - Охрана труда, где ты?
Хмеля кротко улыбнулся и ничего не ответил. Но тут же решил, что Иван Михайлович может подумать, что он, Хмеля, пьянствует и дерется. Эта мысль испугала его, и он сказал, что упал в подворотне своего дома, поскользнувшись и подвернув ногу.
- Хромаю даже! - добавил Хмелянский.
- Жмакина давно не встречал? - спросил Иван Михайлович, словно о знакомом инженере, или токаре, или бухгалтере. Спросил походя, легко, без нажима и, услышав, что давно, кивнул головой, словно иного ответа не ждал. Потом задумчиво произнес: - Заявился он, по Ленинграду ходит. А мне побеседовать с ним надо, очень надо...