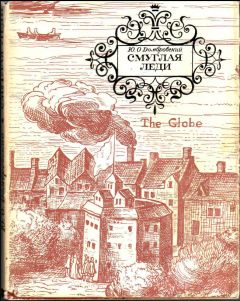Она раздраженно отбросила молитвенник и даже не заметила этого.
— Мне можно идти, ваше величество? — спросил сэр Френсис, отступая к дверям.
Королева молчала. Потом сказала:
— Идите, — и махнула рукой.
Он был уже на пороге, когда она окликнула его.
— Стойте! Никуда не идти. Я скажу, когда и что надо будет сделать.
— Слушаюсь, ваше величество, — поклонился сэр Френсис.
И, помолчав, осторожно спросил:
— А что же актеры?
— И актеров не трогать. Я хочу посмотреть, чем все это кончится. Только за этими двумя, Шекспиром и Бербеджем, установить надзор. Проследить, не будут ли они встречаться с графом.
Она помолчала и сказала глухо, будто выпалила:
— Идите, сэр!
* * *
Сэр Френсис ушел. Королева поглядела на Фиттон.
— Мэри! — сказала она вдруг надрывно и нежно.
Фиттон подошла к ней быстрыми маленькими шагами, опустилась на колени и, целуя руки, уткнулась лицом в блестящее шелковое одеяло. Она услышала запах уксуса, потом каких-то тяжелых, томительных духов, и было такое кратчайшее, но ужасное мгновение, когда ей показалось, что она целует руки покойницы. Везде стоял тонкий, острый, похожий на аромат гиацинтов, запах гнили.
Королева положила на голову Фиттон сухую, твердую руку и провела по волосам.
— Старая, бесплодная ветвь, — горько сказала она о себе. — Так я и засохну вместе со своей династией. Все возьмет сын этой распутницы.
Это она говорила о Марии Стюарт и о сыне ее Иакове V, которому она хотела завещать свой престол. И Фиттон стало ясно: королеве действительно очень плохо, если она вспоминает о них.
— Ваше величество, — сказала Фиттон растерянно и, плача, стала порывисто целовать ее руки, — разрешите тогда и мне покинуть эту несчастную землю вместе с моей повелительницей?
Жесткие сильные руки, с длинными, почти птичьими ногтями поползли по ее голове и остановились на висках. Королева подняла голову фрейлины и глубоко заглянула в ее черные, чуть матовые глаза.
— Нет, мой кудрявый мальчик, вы будете жить. Вы узнаете еще много горя и счастья, и когда ваша старая монархиня отойдет к Господу… — Мимоходом она все-таки взглянула на себя в зеркало — эта фигура старой, умирающей королевы, которая гладит по волосам коленопреклоненную красавицу, была чрезвычайно эффектна, и Мэри сразу же заметила этот взгляд, оценила положение и приникла к ее коленям.
— Не верьте людям, — сказала королева торжественно и твердо. — Вот, посмотрите на этого джентльмена. Граф за уши вытащил его из ничтожества, он дарил этому псу земли и дворцы, это на его деньги он сейчас живет, он ни днем, ни ночью не давал мне покоя, все время твердя об этом борове (королева, несмотря на свою редкую ученость, любила крепкие словечки), — а теперь этот ученый муж — самая лучшая голова Англии, так называл его граф, сам же его и топит.
Мэри молчала. Она вдруг подумала: нет, Эссекс еще всплывет. И кто знает, как повернется тогда дело?
На всякий случай она сказала:
— Ваше величество так добры, что и сейчас заступаетесь за виновного.
— Да, да, — сказала королева. — Да, да, вот вам слабое женское сердце. А находятся же люди, которые говорят, что их королева никогда не знала любви. Как это написал твой Шекспир?
Леди Фиттон подняла голову, лицо ее пылало, а по щекам текли слезы. Грудным, гибким голосом, который казался таким же матовым и смуглым, как ее кожа, она прочла:
Клятвою своею
Сокровище лишает целый свет.
Измученная пыткою голодной,
Для мира сгинет красота бесплодной
И красоты лишит грядущие века!
Да! Хороша она и высока,
Высоко-хороша! Святыни, поклоненья
Достойная! Увы! На горе и мученье
Она дала обет ни разу не любить.
— Нет, к сожалению, не так, — сказала королева, — не так, не так, не так. Я женщина, и я люблю. А он торгует моей любовью и моим престолом. Он сносится с сыном распутной мужеубийцы и хочет при моей жизни отдать ему престол, а меня придушить, как крысу в подполье. Как этого Ричарда, пьесу про которого ставит твой негодяй комедиант.
Она действительно походила на летучую мышь, в своих длинных черных одеждах. Глаза ее были печальны. «Сейчас самый раз», — подумала Фиттон и вынула письмо.
— Ваше величество, есть люди, которые ставят вашу красоту превыше всего. Разрешите мне прочесть.
— Дитя, дитя, — сказала королева, снисходительно улыбаясь. — Что вы в этом понимаете? Я так его любила, а теперь он… Ах, как же он будет каяться и плакать, каяться и плакать, — добавила она медленно и плотоядно, — но тогда ему уже ничего не поможет. — Она покачала головой. — Читайте письмо.
Фиттон стала читать.
Королева сидела неподвижно, положив на колени широкие кисти рук, которые приобрели уже жесткость и отточенность когтей хищной птицы.
Фиттон она будто не слушала. И только раз подняла голову.
— Постойте! Как хорошо он пишет, — сказала она медленно.
«Прекрасная красота ее величества является единственным солнцем, освещающим мой маленький мирок». Ах, как хорошо это сказано! Это Пембрук, конечно?
Фиттон кивнула головой.
— Когда это все кончится, ты приведешь его сюда. Слышишь?
— Слышу, ваше величество, — сказала Фиттон и положила письмо на кровать.
Ей надо было торопиться. Сегодня будет представление, надо же предупредить Шекспира. Пусть сейчас же уезжает из Лондона.
«Меланхолия и веселость владеют мной попеременно; иногда я чувствую себя счастливым, но чаще я угрюм; время, в которое мы живем, непостояннее женщины, плачевнее старости; оно производит и людей, подобных себе: деспотичных, изменчивых, несчастных; о себе скажу, что я без гордости встретил бы всякое счастье, так как оно было бы простой игрой случая, и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как мы сами ее принимаем.»
(Из письма Эссекса к леди Рич.)
В замке было много комнат — и огромных, и малых, и даже несколько зал. Одна, что поменьше, для фехтования, другие, очень большие, для пиршеств и иных надобностей. Эссекс засел в самой маленькой, удаленной от всего каморке, — почти под самой крышей — и с утра никуда из нее не показывался. В фехтовальной зале (там и собрались все заговорщики) передавали, что он все время сидит и пишет, но вот кто-то зашел к нему и увидел: что Эссекс написал, то он и изорвал тут же. Вся комната была усыпана как будто снежными хлопьями, а сам он ходил по ним, хмурился и думал, думал. А так как думать сейчас было уже не о чем, то внизу встревожились и пошли посмотреть; остановились около двери, послушали — шаги за дверью звучали не отчетливо-мелко и звонко, как всегда, а падали — медленные, мягкие, очень утомленные. О чем он думает? Говорят — пишет письмо королеве — требует объяснения. Да полно — письмо ли он пишет? Не завещание ли составляет?
В общем, в фехтовальной зале было очень мрачно и тяжело, и никак не помогало то, что заговорщики зажгли все свечи. Разговоры не вязались, ибо каждый думал о своем. Но свое-то у всех было одно, общее для каждого, и если до этой проклятой мышеловки об этом своем можно было говорить долго, красочно и интересно, то теперь оно уменьшалось до того, что свободно укладывалось в короткое слово «конец».
— Конец, — сказал граф Блонд и тяжело встал с кресла. Все молчали, он пояснил: — Так и не показывается из комнаты, еще утром я надеялся на него, а сейчас…
Он подумал, усмехнулся чему-то и, словно недоумевая слегка, развел полными, почти женскими кистями рук с толстыми белыми пальцами.
В большой зале было сыро, от света больших бронзовых подсвечников на полу наплывали прозрачные пятна и целые озера света, но и через них Бог знает откуда струилась та уверенная безнадежность, которую один Блонд принимал так полно, ясно и спокойно, что, казалось, иного ему и не требовалось.
Он прошелся по зале, поправил перевязь шпаги (все были подтянуто и подчеркнуто одеты, как на парад) и вдруг, словно вспомнив что-то, спросил:
— А актеры не приходили?
Ему сказали, что один пришел и его провели наверх, к графу. То, что актер все-таки пришел, было таким пустяком, о котором и говорить-то серьезно не следовало, но Блонд вдруг оживился.
— Вот как, — сказал он бодро, — и не испугался! Ай да актер! Как же его зовут?
Ему ответил начальник личной стражи графа высокий, костлявый ирландец с красиво подстриженной бородой и быстрыми, стального цвета, пронзительными глазами.
— Кто он — не знаю, фамилию он сказал, да я забыл. Кажется, что-то вроде Шекспира. Но молодец! Так стучал и требовал, чтобы его провели к самому графу, что я подумал — не иначе как из дворца.