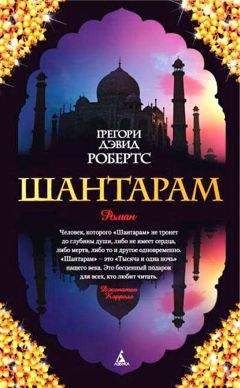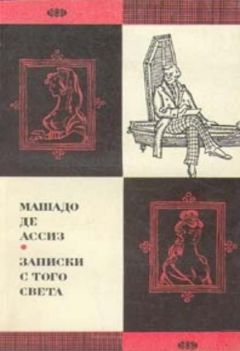Это единственный человек, общаясь с которым я всегда ощущал некий не-большой внутренний мандраж. Но с ним было интересно.
Очень властный, но пользовался своей властью редко. Утилитарно. Он не наслаждался властью, он просто разрешал проблемы, как машина. Часто лежа, если дело происходило в нашей камере, смотря как будто в сторону, внимательно выслушивая и не перебивая.
Создавалось впечатление, что он и власть – это единое целое.
Что он руководил всегда.
Человека с такой осанкой очень сложно представить на месте подчиненного.
Почему же он, зная правила игры, тем не менее не вышел из нее?
Он чувствовал мой вопрос, я несколько раз не напрямую затрагивал эту тему, и как-то, неожи-данно, он ответил мне.
«Понимаешь, Алекс. Я очень люблю красивую жизнь».
Когда он говорил о «dolche vita», его лицо менялось, он говорил об этом, как наркоманы говорят о дозе – со сладострастием.
«За все надо платить, Алекс».
«Все имеет свою цену».
«Ты либо покупаешь, либо нет».
«Я объясню тебе на примере отношений мужчины и женщины.
Ты видишь девушку, и ты либо покупаешь ее, либо нет. Ты тратишь время, деньги и т. д. Покупаешь ее на ночь либо на всю жизнь. Либо нет. Ты либо платишь, либо нет. Она либо продается тебе за твои деньги, ум, тело, талант либо что-то другое, либо нет».
И добавил: «Больше всего мне не нравятся люди, которые и хотят, но боятся заплатить, или те, у кого нет денег, но они делают вид, что есть».
Не слишком ли большая цена, Агрика? – подумал я.
Как ни странно, он не жалел ни о чем.
И, как я понял, когда он выйдет, он займется тем же самым.
Он был одним из немногих людей, кого тюрьма не изменила.
Он не поменялся ни на йоту.
Он ни о чем не жалел.
Он удивил меня.
Сильный человек? Да.
Умный? Да.
Почему он не сделал никаких выводов?
«Я пришел в этот мир наслаждаться, – сказал он, – и я готов за это платить. Странно, что люди не понимают, что за все в этой жизни надо платить».
Мне вспомнились слова Оскара Уайльда: «Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам».
Венгр Миклош
Такой немотивированной агрессии к себе я не встречал ни от кого в тюрьме.
Это был парень лет тридцати, немного полноватый, таких называют «с широкой костью». Его лицо было испещрено ямками акне. Несмотря на уже недетский возраст, оно было подвержено угревой сыпи.
Он следил со своей верхней полки за каждым моим шагом, комментировал мои действия и жутко радовался, когда я совершал по незнанию или недоразумению любую ошибку.
Он был просто преисполнен непонятной, совершенно иррациональной ненавистью ко мне.
Однако я попал в фавор Агрике, и, когда Миклош замечал мою погрешность, взоры всех устремлялись сразу на Агрику, а тот был невозмутим…
Я решил поговорить с Миклошем. Так как его постоянная враждебность порядком нервировала меня. Да и было просто интересно: в чем же причина?
Оказалось, его предки с Западной Украины бежали в 1939 году в Венгрию от советских войск… и вообще, все они хорошо помнят и 1956 год, когда были введены танки, и все послевоенное время. Считают СССР, а теперь Россию, агрессором. Это стало для меня откровением. Я мысленно подсчитал дату его рождения, он заставал только 80-е годы. Он же ничего не должен был помнить…
Однако, когда Миклош говорил про это, он был похож на участника этих событий, очевидца.
Его агрессия была генетической.
Признаться, я был просто огорошен этой информацией. Подумал: Венгрия какая-то, мы самих себя на щепки рубили, других, что ли, жалеть будем?
Я только сказал, что Россия – это не СССР. На что Миклош только ухмыльнулся. Да и я сам сказал это как-то неуверенно и задумался.
Россия – это не СССР?
Потом более уверенно, «что у нас все изменилось».
И что «мы и не помним о Венгрии… кого не спроси, никто и не вспомнит о тех событиях».
На что Миклош жестко ответил: «Зато мы все и всё помним».
Наш разговор все же произвел терапевтический эффект, я уже более спокойно
относился к его агрессии, так как понимал ее истоки.
Замечания и провокации не прекратились, но они уже носили более мягкий характер, а пару раз он даже неожиданно мне помог! Это была небольшая помощь, но показательная. Его отношение ко мне изменилось.
Мои слова дошли до него, а его до меня.
Самое главное, наверное, он увидел, что я постарался понять его. Он же после нашего разговора осознал, что я прежде всего человек, а потом уже русский и что мы действительно ничего не помним.
У этой истории две морали.
Первая: надо разговаривать.
И вторая: за действия дедов и отцов отвечают дети, внуки и правнуки, праправнуки…
У тебя может только создаться иллюзия, что ты не платишь.
Плата неминуема.
Ты всегда за все платишь, если не заплатил полностью – передаёшь свой кредит детям и внукам – они будут платить по твоим долгам.
Так, в Бразилии в 2012 году я расплачивался и за 1939-й и за 1956-й …
В который раз вспомнил слова Агрики: «Странно, что люди не понимают, что за всё в этой жизни надо платить».
Джонни, Джонни
В нашей камере был еще один афроамериканец – Джонни.
Ему было лет пятьдесят пять – шестьдесят.
Сухопарый старик.
Морщинистое лицо, седые кудрявые короткие волосы.
Он был похож на известного американского
актера Моргана Фримена.
Он очень плохо видел.
И он всегда, все свое время, шил мячи.
За это в бразильских тюрьмах платят. Если у тебя есть желание, тебе выдают кусочки кожи и ты можешь сшивать из них мячи. За это тебе платят копейки (сентавы).
Один раз, ради интереса, я попросил у него попробовать – у меня не получилось, сложная, кропотливая работа, во время которой ты искалываешь себе пальцы.
На прогулке он садился на табуретку и сшивал мяч, в камере при сумерках он шил. Он шил до самой-самой темноты, на ощупь, искалывая пальцы в кровь. Он не шил только рано утром.
Все остальное время он сидел и, сгорбившись, сшивал мячи. Он делал это сосредоточенно
и неистово. Его руки немного тряслись, наверное, от старости и нервов.
Мячи получались у него плохо.
Все тюремные мячи были кривоваты.
Их шьют неудачники.
А мячи Джонни были особенно кривые. Так он шил, шил мяч и вдруг – косяк
Их очень часто у него не принимали.
Мячи и вправду были кривоваты.
Он ругался, гавкал, как старый сторожевой пес, списанный со службы. Злобно, прерывисто, но в голосе была безысходность.
Приемщики кидали Джонни мяч обратно – «переделывай», и он не мог сразу его найти.
Мне было его очень и очень жалко.
Он находил мяч и показывал его сокамерникам, спрашивая: «Нормальный же мяч?» Те отвечали: «Нет, Джонни, нет…»
Он брал мяч, садился в угол, какое-то время молча держал его в руках и плакал. Он плакал так, как я не видел никогда.