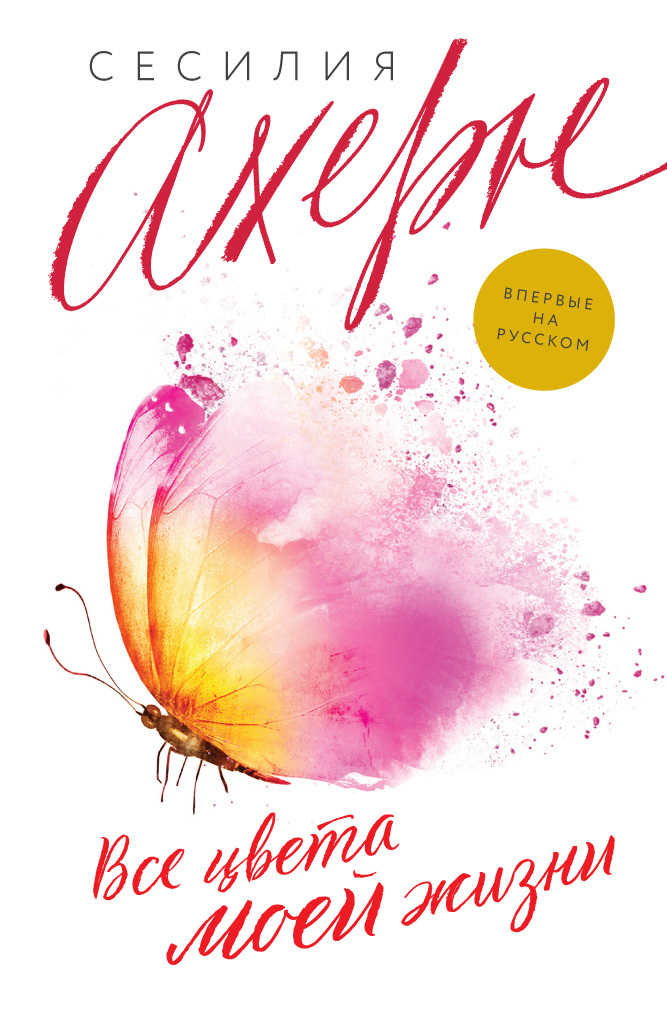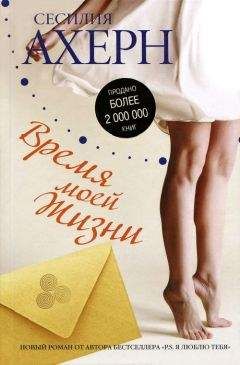я.
Он поднимает на меня глаза, и я добавляю:
– Про свои карты.
– В покере это называется блефовать. Еще выпьешь? Ник! – обернувшись через плечо, зовет он женщину.
– Мне воды, пожалуйста, – прошу я.
– А мне еще.
– Тебе хватит, больше не дам! – кричит в ответ Ник.
Он делает мне круглые глаза, выдвигает стул напротив себя, и я воспринимаю это как приглашение. Я сажусь и смотрю на карты, которые так и валяются на столе, брошенные игроками. Ник смотрит на нас, догадывается, что я не слепая, и, наверное, не понимает, почему тогда я в темных очках. Прищурив глаза, которые перевидали много всякого, она наблюдает.
– Это называется «техасский холдем», – негромко произносит он и, даже не спрашивая меня, начинает объяснять правила и каждый ход, который только что делал.
– А здесь вы соврали, – говорю я, когда мы доходим до того поворотного момента, когда он поднял ставку.
– Сблефовал, – снова поправляет он, но, похоже, я его впечатлила. Он собирает все карты вместе, тасует, не отрывая от меня глаз, изучая, точно я – карта, и он решает, что со мной сделать: сдать или придержать.
Он берет из колоды карту и, держа ее близко к себе, говорит:
– Семерка червей.
– Врете.
– Блефую. В картах не врут. Спасибо, милая, – произносит он, когда Ник все-таки приносит ему неразбавленный виски, а мне воду. – Это Никола.
– Да просто Ник, меня все так называют.
– Очень приятно, – улыбаюсь я.
– Точно ничего другого не хотите?
– Я не пью.
– Вот и правильно.
– Кошмарный сон хозяина, – шутит он.
– Вы хозяйка?
Ник солидно покашливает. Он улыбается и говорит:
– Начальница.
Он кладет карту на стол, рубашкой вверх, и вытягивает из колоды другую:
– Тройка треф.
Я рассматриваю воздух вокруг него. Ни вспышек, ни резко металлических, ни тусклых цветов.
– Да.
Он вытягивает еще одну:
– Шестерка бубен.
– Да.
– Валет червей.
– Блефуете.
– Господи, да откуда ж ты знаешь? – наконец выдав свои чувства, произносит он.
Я пожимаю плечами:
– Знаю, и все.
– У меня что, на лице написано?
– Вы свое лицо вряд ли видите.
– Ха! – злорадно выдает Ник из-за стойки.
– Так что же это тогда? – спрашивает он.
– Ваша энергия, – отвечаю я и жду, что вот сейчас он рассмеется, прогонит меня, скажет, что время позднее и пора закругляться.
– Моя энергия… – говорит он и внимательно смотрит на меня. – Отец мой, покойный, знавал парня наподобие тебя. Они вместе работали. Отец частенько о нем рассказывал. Чудной был, говорил.
– Чудной?
– Ну, не чудной… чудаковатый.
– Я нормальная. И вообще, вас это не касается.
– Но не в том смысле, что чокнутый. Необычный, – говорит он, снова тасуя карты и глядя одним глазом на меня, одним на колоду, хоть это почти невозможно. – Из таких, у кого есть дар. Он видел по-особому. Чувствовал по-особому. Один глаз у него был стеклянный, вот такой, – и он косит глазами. – У тебя такого нет. А может, есть, да за очками не видно.
Я снимаю очки. Чуть прищуриваюсь, даже при тусклом свете паба.
Он разглядывает мое лицо, и на его глаза наворачиваются слезы.
* * *
В мире я не единственный человек с такими способностями. Нет, есть отравленные тем же ядом, только, в отличие от меня или окружающих, они не видят в нем загадочного, малопонятного, пагубного проклятия.
Мать наитием понимает, когда мужчина не подходит ее дочери; мать всегда видит, что скрывается за обаянием, видит за маской настоящее лицо. А если не видит, то ощущает. Полицейский следователь чувствует что-то нутром, когда встречается с человеком, выслеживает кого-нибудь, слышит алиби и понимает, что оно липовое, голова у него сразу начинает восстанавливать слова и сопоставляет их с правдой. Женщины, которые знают, что поздно вечером не стоит идти одной по темному переулку, чувствуют, как на шее у них волоски поднимаются дыбом, когда вроде бы рядом никого нет, хотя на самом деле это не так. Эти врожденные инстинкты не просто так есть у нас всех, потому что нужны нам всем; с незапамятных времен они помогают выживать. Современная жизнь такова, что мы забываем о них, но они никуда не делись, в одних сохранились лучше, чем в других, только дремлют и ждут, когда пригодятся.
Или отец, который последний раз видел дочь, когда той было семь лет, за несколько недель до того, как ей исполнилось восемь, а через шестнадцать лет, когда она входит, чутьем понимает, кто это такая.
* * *
– Хью говорил мне, что ты какая-то особенная, – говорит он, перебирая карты и изредка поглядывая на меня.
Я без очков. Я хочу, чтобы он меня видел. Хочу, чтобы видел, сколько времени прошло с тех пор, когда мы виделись в последний раз.
Я знала, что Хью всегда поддерживал с ним связь, но сама предпочла оборвать ее.
– По-моему, это Хью особенный, – отвечаю я.
– Ты всегда такая была, – говорит он с улыбкой. – Ходила за ним, как хвостик. Хотела есть то же, что Хью, играть в то же, во что играл Хью. И он тебя не прогонял; всегда очень хорошо к тебе относился. Терпеливый с тобой был, добрый.
– Он и сейчас такой же.
– Вот и хорошо. Я всегда знал, что с ним ты в надежных руках.
Повисает длинная пауза, и она говорит то, о чем оба мы говорить не хотим. Я не хочу делать этого: быть такой предсказуемой, появиться после почти двадцати лет горечи и бросания упреков друг другу. Но даже я – земной человек, в конце-то концов.
– Не надо было тебе так с ним поступать. Повесил нас всех на него. Знал же, что она ничего не сумеет.
Он смотрит на меня с таким больным выражением на лице, как будто бы хочет поговорить о чем угодно, только не об этом.
– Вот никогда не думал, что она будет плохой матерью, Элис. Она была плохой женой, плохим человеком, но я подумал – вот уйду, и хочешь не хочешь ей придется быть хорошей матерью.
– Интересно так рискнуть, но оно и понятно: ты ведь игрок по своей сути, – говорю я не зло, а спокойно, как сторонний наблюдатель.
– Да, это ужасная правда, и мне очень жаль. Я и минуты больше не мог с ней пробыть. По-моему, мы бы с ней друг друга поубивали. Мрачно было, в общем. Считалось, что я уеду, устроюсь как-нибудь, сам встану на ноги и смогу поставить на ноги тебя, но… как-то получилось, время шло, и того, что у меня было, тебе бы не хватило. Не мог я положить тебя спать