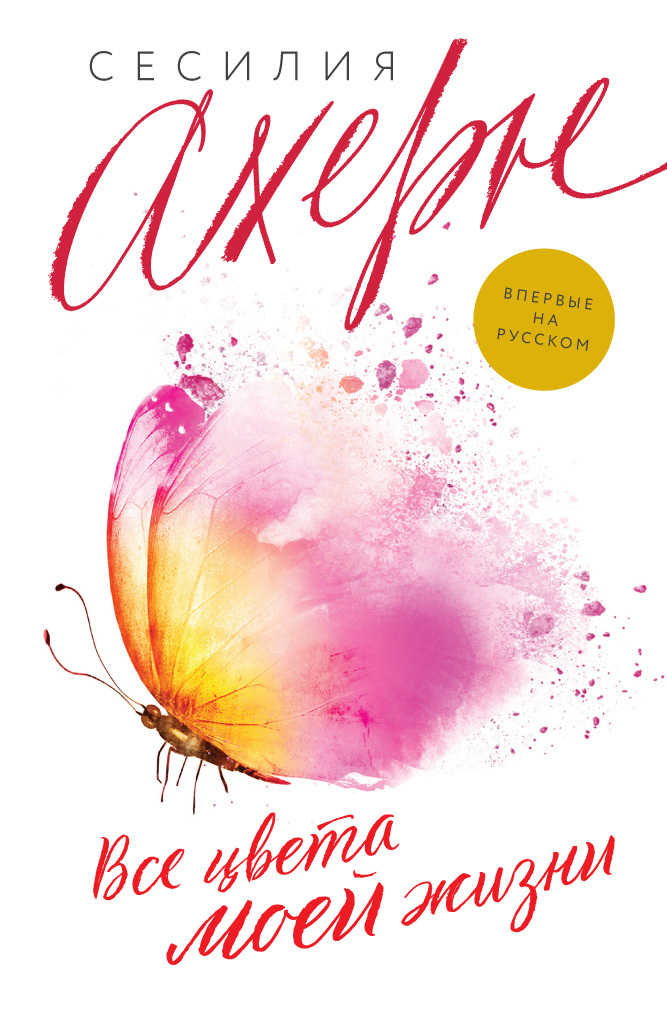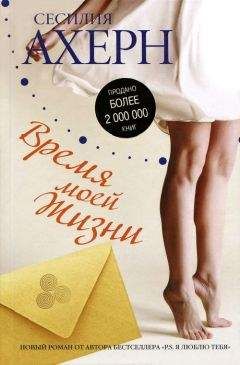в легкий выход.
Я не знаю, для чего вижу ауру, но что не для такого – это точно.
Я иду к себе, собираю вещи, оставляю на столе конверт с деньгами, более чем щедро оплатив свое проживание. К тому времени, когда мы должны бы играть, я уже на полпути в Лондон.
В ночном поезде на Лондон тихо и спокойно. Я сажусь у свободного столика на четверых, чтобы можно было положить на него ноги. В вагон заходит женщина с маленькой девочкой, по-моему, с дочерью. Мать чуть не швыряет малышку в кресло наискосок от меня, как будто во всем вагоне больше негде сесть, сумку тяжело опускает рядом с собой, а ноги кладет на кресло напротив.
Я тут же снимаю ноги со столика.
Цвета матери знакомы мне. Цвета дочери – тоже. Лицо у девочки угрюмое, взгляд ее мрачен и хмур, и ее глаза, хоть и светлые, кажутся безжизненными. В них застыла печаль, и под ними темные круги. Я смотрю на мать. Губы ее шевелятся, как будто она говорит, но слов не слышно. Она несколько раз качает головой, не соглашаясь, проигрывая в споре с самой собой и отказываясь это признать. Маленькая девочка замечает, что я смотрю, и ей становится неловко.
Я улыбаюсь ей.
Она недоверчиво отворачивается, и я ее не виню. В списке ее неприятностей повышенно дружелюбная, странноватая незнакомка в поезде совсем ни к чему. Я снова отворачиваюсь к окну и оказываюсь лицом к лицу с собственным отражением на фоне темного неба. Я чувствую – и вижу в отражении на стекле – что она не сводит с меня своего взгляда.
Мать тянется через проход и звонко шлепает дочь по руке. «Нечего пялиться!» – произносит она, хотя и сама долго, недружелюбно разглядывала меня, когда уселась на свое место.
– Ничего страшного, – отвечаю я. На носу у меня темные очки, на лице маска, на руках перчатки, и я допускаю, что это ненормально.
Обе смотрят, как я снимаю маску, ожидая, наверное, увидеть чудище. Цвета матери темно-зеленые, болотные, не то чтобы зловеще-черные, но вполне темные, чтобы волноваться из-за них. В самой их глубине клубятся красные облачка гнева, похожие на глаза какого-то страшного создания, которое вот-вот покажется из глубин пещеры. Она эмоционально неустойчива, это совершенно ясно. Я чувствую их обеих, а женщину мне даже жалко, хотя, например, к собственной матери я никогда не испытывала ничего подобного. Какая она мать, если внутри ее творится такое? Наконец матери становится скучно смотреть на меня, она снова замыкается и продолжает безмолвный разговор с самой собой.
Мне хочется очень много сказать маленькой девочке, но с чего начать, я не знаю. Я хочу спросить, все ли с ней в порядке. Ты как, держишься? Я стараюсь припомнить, случалось ли, чтобы на меня так смотрели, может быть, заметив атмосферу между мной и Лили, но ничего такого не вспоминается. Я всегда думала, что мы правильно делали, держа все при себе. Все у меня в голове.
Мать неожиданно поднимается и хватает сумки. Я выпрямляюсь в своем кресле, маленькая девочка тоже – она, бедолага, наверное, всегда как на иголках. Сколько я могла бы сказать…
– Будьте добры к ней, – произношу я вслух, а сердце чуть не выскакивает из груди.
* * *
Возможно, я приняла странное решение – переехать в большой, почти девятимиллионный город, где сплошной шум и беспокойство, от которых я каждый день бегаю как от огня. Может, это такая терапия подвергания. Я довольно долго бегала от людей и стала бояться их. Я хочу, чтобы меня не втягивали в свои эмоции, чтобы не трогали, оставили в покое. Я не хочу, чтобы чужие проблемы становились моими, но быть одной мне тоже не хочется. Мне нужно найти способ жить с людьми, быть среди них. Хью много лет говорит мне об этом. Я догадываюсь, что в теории спецшкола готовила нас именно к этому, но только теперь ощущаю, что готова. А потом легче затеряться в толпе, чем торчать одной у всех на виду, и я хотела бы исчезнуть и начать собственную жизнь.
И вот я в Лондоне, в баре. Называется он «Веселый епископ». «Счастливый час» здесь с пяти до восьми вечера, и народу полно, очередь даже на улице стоит. Шумно, люди перекрикивают музыку и друг друга, смеются громко, так что, наверное, потом горло болит. Они пришли сюда прямо с работы, радуются свободе в предстоящие выходные, и одной-двумя рюмками не ограничиваются. Есть те, кто пришел из одного офиса и теперь они пьют вместе; это сразу видно по жестам, по сплоченности, по разговору, чуть более сдержанному, чем у тех, кто после работы встречается не с коллегами.
Я одна сижу в полукабинете. Пришлось останавливать желающих занять соседнее место; здесь очень людно, и мне нужно сохранить пространство вокруг себя.
– Ой, а здесь кто-то уже сидит, – отвечаю я насчет стула, на котором стоит моя сумка. – Я жду… Она в туалете… Они сейчас придут… Он на улице, курит…
Я без устали придумываю новые объяснения. Сначала получается неплохо, но народ все прибывает и прибывает, и мне становится непросто держать оборону. Люди окружают стол, вторгаются на мою территорию, прислоняются к спинкам стульев, присаживаются на ручки. Пальто и сумки громоздятся на пустых стульях. Они замечают незанятый полукабинет в переполненном баре, замечают меня и стакан минералки у меня на столе. На мне нет ни перчаток, ни маски; не до такой же степени я дура.
Я держусь, тяну время как могу, а пока наблюдаю, как люди общаются между собой. Я очень люблю наблюдать за людьми, и позиция сейчас у меня просто превосходная. Кого здесь только нет: и те, кого называют «душой компании», и спокойные, и застенчивые, и хитрые, и взвинченные, гиперактивные. Все тусуются, стреляют цветами в свои цели, как будто играют в космических пришельцев. Я уже довольно хорошо разбираюсь в цветах и внимательно смотрю, какой преобладает, что самое главное передает им человек. Все остальное прячется поглубже, заглушается: такого в шумном баре, да еще и в «счастливый час», никто не хочет выставлять на всеобщее обозрение. По крайней мере, не на обозрение коллег. Исключение лишь одно: две женщины в углу зала сидят совсем рядом, склонившись друг к другу головами, не поднимают даже глаз, их внутренние цвета становятся все ярче и ярче по мере того, как они делятся чем-то, и настроения меняются вслед за тем, о чем идет разговор.