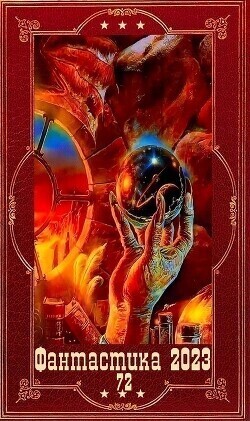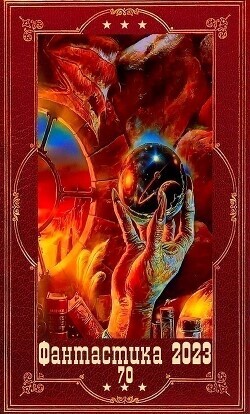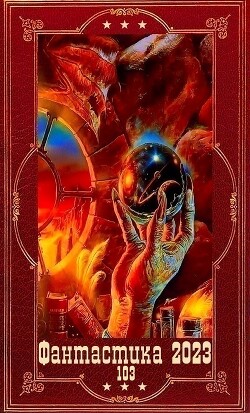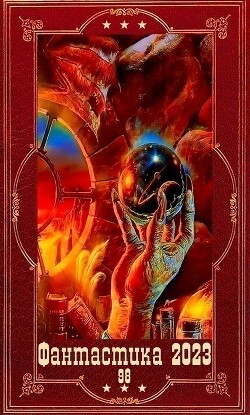вопрос о консультации для него не существовал.
– Все обычно, – ответила Регина, раздраженная упрямством мужа. – Большинство в отпусках – остальные помаленьку халтурят.
– Кажется, у вас сегодня банкет?
– Ну какой мне банкет? – произнесла она с горечью.
– Рина, послушай меня… – он ласково накрыл ладонью ее кисть. – Не хорони ты меня раньше времени!.. Рак – это обычная болезнь двадцатого столетия. Если застать вовремя, излечивается в 80 % случаев. Давай не будем делать трагедию… – Он любовался своим самообладанием. – Сейчас сколько? – он посмотрел на квадратные электронные часы, вделанные в кухонный высокий пенал. – Девятнадцать десять… Банкет начинается в восемь. Ты еще успеваешь!
– Слава… – тяжело вздохнула она, – о чем ты?.. Неужели я тебя оставлю одного!
С иезуитским интересом Станислав Сергеич отмечал, что изображающая любящую супругу жена – как это ни странно – верит в свои переживания на все сто процентов! Однако… на банкет уж очень хочется… Ведь не при смерти же он!.. Тропотуну казалось, что чувства Регины у него как на ладони и что сейчас он способен прочесть в ее душе самое малое и даже неосознанное вполне движение.
– Не делай фетиш из моей болезни! – раздраженно настаивал он. – К тому же я именно и хочу остаться один!..
Несколько мгновений она с сомнением вглядывалась в его лицо.
– Прошу тебя, иди… – сказал проникновенно Станислав Сергеич.
И тогда Регина наконец поверила, что он действительно этого хочет. Она улыбнулась неловко, кивнула и легко поднялась из-за стола. Провожая взглядом ее узкую спину, Тропотун с удовлетворением подумал, что в самом конце непременно напомнит ей про банкет.
В последующие дни Станислав Сергеич обращал себя в йога. Как заезженная пластинка, твердил он данную Федором мантру, изучал священные тексты и старательно пытался медитировать – утром, вместо гимнастики, и вечером, отбросив привычные свои блуждания в эфире с помощью транзистора. Хуже всего давались ему медитации. Он закрывался в кабинете, предварительно попросив жену его не беспокоить, и откидывался на спинку дивана в полулежачей расслабленной позе и с закрытыми глазами. Мозг его, однако, никак не желал успокаиваться. В голове вдруг начинал крутиться какой-либо навязчивый мотивчик или же прилетал неведомый диалог, а то так являлись мысленному взору ухмыляющийся Ефременко, кисло-желчный Оршанский или какая-нибудь вовсе неизвестная и отвратительная рожа. Станислав Сергеич злился, отталкивал навязчивые образы – и выходил из нужного состояния сосредоточенности на своем внутреннем мире.
Блуждая по хитрому лабиринту своего «я», Тропотун сделался весьма рассеян в мире внешнем. Однажды Любочка остолбенела, обозрев явившегося на работу патрона в однотонном коричневом костюме – но при двух галстуках, красном и сером в полоску. Она весьма деликатно справилась, не новая ли это мода?.. На что начальник, непонятно усмехнувшись, не ответил ничего, но серый галстук затем снял.
Дела институтские шли самотеком. Двигавшийся по инерции отлаженный управленческий механизм пока что работал без сбоев. Сотрудники занимались своими проблемами, и никто не обращал внимания на необычное настроение заместителя директора по научной и конструкторской работе.
Являясь на службу, Станислав Сергеич предупреждал Любочку, что у него совещание, и, расхаживая по кабинету, размышлял. Согласен, говорил он себе, источник сущего – Свет… Крохотный огонек горит в душе каждого человеческого существа. И я… я едва не погасил его!.. Суть прежнего Тропотуна – лицемерие… Я должен очиститься. Должен творить добро!.. Добро… Хмм… Оно вытекает из сути человеческой натуры. Я же напоминаю себе гусеницу, которая выдавливает из брюшка клейкую нить, чтобы без ущерба для себя соскользнуть с высокого дерева. Мне приходится насиловать свое «я» в любви к ближнему. Тупость окружающих, их леность и отсутствие настоящих высоких устремлений просто бесят меня! Куда взгляд ни кинь – ничтожества! Ничтожества и ханжи!..
Возвращаясь с работы домой, он молча переодевался, молча ужинал и запирался в своем кабинете. Если в начале этого «глубокого погружения» Регина пыталась как-то воззвать к рассудку мужа, то спустя несколько дней заняла позицию выжидания, надеясь, едва супруг отойдет от всех философских бредней, тотчас запустить машину консультаций и лечения в лучшей клинике.
На пятый день Станислав Сергеич с ужасом осознал, что окончательно запутался. Будущее представлялось ему разверзшейся впереди ледяной пропастью, в которую он соскальзывает со все возрастающей скоростью. «Сегодня же к Федору!» – решительно произнес он. Стоявшая возле стола Любочка, в руках которой была папка с утренней корреспонденцией, слегка опешила и потом еще долго пыталась припомнить, кто такой этот Федор?..
После обеда они обсудили со Шнайдером меры по улучшению трудовой дисциплины – в НИИБЫТиМе считалось хорошим тоном опаздывать на энное количество минут на работу, с обеда и тэпэ, – решили опробовать штрафные санкции на его, самом внушительном, отделе.
Когда затем Тропотун остался один, собственный кабинет вдруг настойчиво стал напоминать ему погребальную камеру древних. Некоторое время он сопротивлялся наваждению, убеждал себя, что тяжелые портьеры – всего лишь портьеры, а не траурные материи, в которые заворачивают покойников, что деревянные панели – только панели и ничего больше, однако скоро понял, что так можно черт знает до чего дойти, и попросту сбежал с работы. А скоро он уже звонил в знакомую восемнадцатую квартиру, в полной уверенности, что Федор непременно окажется дома.
Федор действительно был дома. В комнате со времени первого визита Станислава Сергеича ничего не изменилось. Даже на столе по-прежнему лежала раскрытая примерно посредине рукопись, – та ли, другая – сказать трудно. Хозяин сел на свой стул и, сгорбившись, устало посмотрел на опустившегося на диван гостя. Лицо Федора выглядело аскетичным, даже изможденным: глубокие вертикальные складки возле почти бесцветных губ, ушедшие под надбровья глаза, нечесаные серые патлы по плечам.
– Я… мне… – с запинкой пробормотал Тропотун. Он положил плашмя на колени дипломат, достал рукопись и протянул Федору. – Изучил… спасибо… Даже определенное созвучие нашел. В юности, знаешь, тоже йогой баловался.
Федор тихо спросил:
– Тебе когда в больницу?
– Через неделю. И я, по-человечески, по-мужски, благодарен тебе, Федор! Потому что, как оказалось, мне не с кем поговорить. Если бы ты знал, каким гадким и маленьким человечешкой я себя вижу… Как опротивел сам себе… Передо мною внезапно открылась вся бессмыслица моей прежней жизни – ее внешняя суетность, мнимая значительность, за которой прячется пустота, и ложь, ложь…
Федор с состраданием посмотрел на Станислава Сергеича и заговорил:
– Я очень тебе сочувствую, честное слово! Но меня отталкивает то, что сейчас ты актерствуешь, любуешься собственными страданиями. Ты ко мне пришел не за тем, чтобы к Истине приобщиться, Чихать тебе на все истины! Ты хотел меня заместо зеркала использовать, увидеть себя моими глазами очищенным,