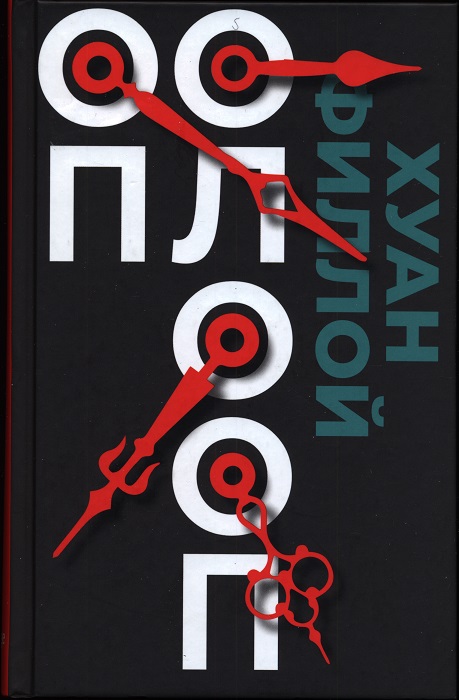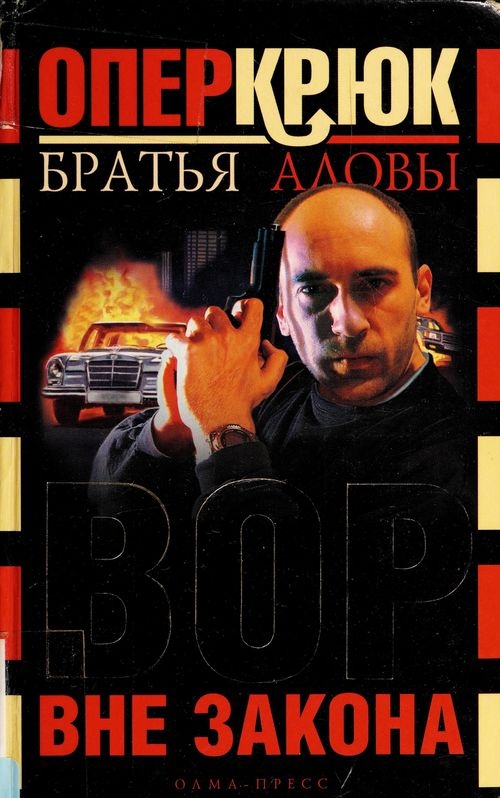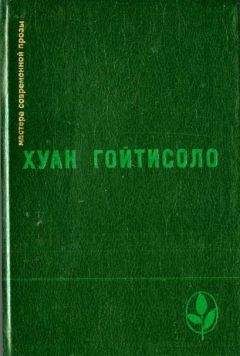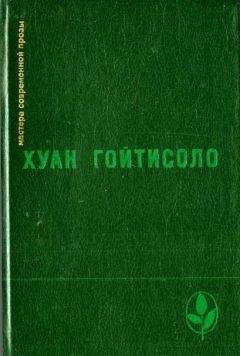ни дня. Приятный дурман скепсиса наполнял сердце волшебством, превращая презрение в сочувствие и возмущение в терпимость.
Гастон Мариетти коварно подловил статистика в момент хорошего настроения:
— Как жаль, что мы прервали вас, Оп Олооп. Продолжите же свой рассказ.
— О тысяче возлюбленных. Но с одним условием. Позвольте мне, с высоты бельведера, которым я стал, поднять тост за того, кем я был.
— Конечно! Единогласно.
— Да, жизнь вывела меня на вершину смотровой башни. И с нее я вижу сосредоточенного печального юношу, покинувшего родные пенаты, защищая свои убеждения… Вижу дерзкого подростка, исходившего всю Финляндию, от Ладоги до Северного Ледовитого океана, и разделившего с ближними тяготы мира гололеда, сосулек и снега… Вижу мечтательного молодого марксиста, опьяненного поэзией шелковых озер, березовых и сосновых лесов, который будет биться за мир Любви, Истины и Справедливости… И я ничего не могу с собой поделать: его горячность, порывистость и чистота трогают мое сердце! Я поднимаю эти слезы за Опа Олоопа, которым я был, и это вино за Опа Олоопа, которого больше не будет…
Отработанным в ходе неоднократных возлияний движением все опрокинули бокалы.
В ушах гостей отзвуком еще дрожали произнесенные полушепотом его последние слова:
— …За Опа Олоопа, которого больше не будет. Ивар и Эрик переглянулись, нахмурив брови.
Студент указал Слаттеру на резкие перепады настроения хозяина: чрезмерную разговорчивость, замкнутость, радость, слезы.
Гастон Мариетти пустился в глубокие размышления:
— Которого больше не будет! Неужто, к несчастью, Оп Олооп — иото finito? Не думаю. Его характер и необычайное жизнелюбие не дадут ему прервать свой путь гуманиста, забыть о высоком искусстве быть человеком настолько, насколько это возможно. Его речь, глубокая по смыслу и подобная сахарному сиропу на вкус, продемонстрировала, однако, глубокую усталость, толкающую его в объятия собственного прошлого. В чем же причина этого состояния? Впрочем, дух человеческий подвержен действию разнонаправленных сил, которые одновременно воздействуют на нашу личность, пытаясь увлечь ее за собой. Даже я чувствую их действие. Verbi-gratia, я, как это ни парадоксально, принимаю нынешнее плачевное состояние морали и наживаюсь на нем, и при этом утверждаю, что меня заботит наше будущее…
Пролившийся с молчаливого согласия Опа Олоопа на сутенера дождь из цветов и смеха вернул его к шумному застолью.
— И вы еще критикуете мои отвлеченные рассуждения и внутренние монологи? Видели бы вы себя, когда погружаетесь в задумчивость… Вам, должно быть, непривычно это состояние… Вы машете руками, как утопающий.
Гастон покраснел:
— Простите меня. Я ненароком задумался о вас. Ваш тост «за Опа Олоопа, которого больше не будет» смутил меня.
— Ницше говорил: «Человек — случайность в мире случайностей».
— Хорошо. Но этот имплицитный отказ от будущего, это решение рядить душу лишь в давно вышедшие из моды одежды прошлого… К слову, я настолько ненавижу прошлое, что неоднократно отказывался от того, чтобы завести детей, из страха, что их возраст будет подчеркивать мою старость.
— А я, напротив, страдал и страдаю от их отсутствия. Они нужны как раз для того, чтобы подчеркивать старость, ведь иллюзия вечной молодости — не более чем иллюзия.
Закончив говорить, он провалился мыслями в воздушную яму. Вздохнул. И, не думая, закрыл глаза рукой.
На этот раз непривычное поведение Опа Олоопа «технически» объяснял своим соседям Пеньяранда. Хотя он и не летал сам по себе, а только сопровождающим, он в совершенстве знал и теорию воздухоплавания, и законы, и международные соглашения, регулирующие воздушное сообщение.
— На пути трансцендентального полета иллюзии к мирной области сознания нередко встает воздух, разреженный тоской и беспокойством. И тогда двигатели субъективного начинают сбоить и иллюзии камнем падают вниз. Пилот выдержанный в таком случае планирует до ангара собственного тела. Прочие же, столкнувшись с крахом надежд, цепенеют в беззащитности духа сродни той, что, должно быть, чувствовали в полете низвергнутые падшие ангелы…
Эрик уловил суть сказанного. И, действуя, как всегда, грубо и решительно, толчком локтя спас положение для своего соотечественника:
— Давай, продолжай, все за столом смотрят тебе в рот. Ты же наверняка уже решил, что стоит нам поведать. Так вперед.
Оп Олооп кивнул в знак согласия. Он возвращался издалека. Его лицо горело, исполненное неясного желания разрыдаться. В нем отражались пройденные туманы подсознательного и пустынная пыль плоти. Он с горечью произнес:
— Я знаю людей, которые, страдая от нехватки чужого тепла, говорят в голос, просто чтобы услышать, что они существуют. Я не верю своему голосу. Мне тяжело говорить. Мой голос всегда звучит незваным гостем в театре, где я ставлю, и я же слушаю, будучи одновременно и режиссером, и зрителем, потаенную драму своей жизни. Простите меня за это и давайте сменим тему.
— Нет, Оп Олооп. Рассказывай. Твое приглашение на этот банкет, написанное в изысканном китайском стиле, не могло не привлечь моего внимания. Вот это:
Досточтимый Ивар,
буду рад, если ты сможешь оказать услугу моему
духу, присоединившись к моему столу сегодня
вечером в 21.30 в Гриль-дель-Пласа.
Это что-то необычное. За этим что-то скрывается. Скажи мне, что за шепот, что за шум, что за гул нужны твоему духу? А я сделаю то, что зависит от меня. Вот только не надо этого непроницаемого лица а-ля Клайв Брукс.
Опа Олоопа загнали в угол. Студент и сутенер с карточками в руках прочитали друг за другом слово «Досточтимый». И присоединились к немому абордажу, смущая его взглядами.
— Господа, ваши ожидания расстраивают меня. О чем вы хотите, чтобы я вам поведал? После бегства из Финляндии моя жизнь стала однообразной, приглаженной и прямой. И оставалась такой. Ты, Ивар, познакомился со мной в лицее в Улеаборге, где я оказался бессилен перед любовью Минны и уроками ее отца, преподавателя литературы. А потом я шел и шел по всей Суоми, от Архангельска до Ботнического залива, от шестидесятого до семидесятого градуса северной широты. Озера, марши, скалы. Холод, голод, камни под ногами. И так, пока мои ягодицы не обрели покоя в контрольном управлении лесозаготовительной империи Турку. Там я познакомился со статистикой. Я напитался абсолютной истиной чисел и относительной истиной вероятностей. На протяжении ряда лет я точно знал мировой объем потребления целлюлозы, дегтя и фанеры в тоннах.