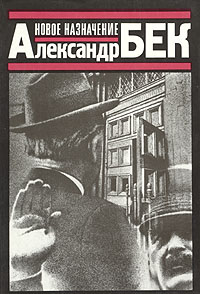Вскоре Челышеву удалось высвободить вечерок, чтобы посидеть у Онисимова.
Александр Леонтьевич впервые принимал здесь на дому, то есть в своей пустынной квартире, близко знакомого человека с родины. Из прихожей он повел старика в гостиную. Люстра, искусно выполненная из ничем не украшенной — так требовал новейший конструктивизм — полоски металла, смело изогнутой в виде острого зигзага, освещала низкие, броского контура, кресла и овальный, тоже под стать креслам низковатый, ничем не покрытый полированный стол. Поодаль возле дивана, в очертаниях которого опять же соединились простота и вычурность, приютился шахматный столик и два обыкновенных стула, несколько здесь странные. Сейчас на этом столике покоился телефонный аппарат. Оклеенные сиреневыми, лишенными рисунка, обоями стены были голы. Предполагалось, что тот, для которого было отремонтировано, подготовлено это жилище, подберет несколько картин по своему вкусу. Однако, равнодушный и здесь к убранству квартиры, Онисимов так и оставил в неприкосновенности наготу стен этой гостиной.
Челышев кинул вокруг взгляд из-под бровей и со своей грубоватой прямолинейностью сказал:
— Что-то тут у вас, Александр Леонтьевич, не пахнет русским духом. В кабинете, где вы нас приняли в первый день, мне было, с вашего позволения, вольготнее. Там хоть казенщина, да наша.
Онисимов тотчас откликнулся:
— Фу-ты ну-ты, мне тоже тут более всего приятен кабинет. Теперь вы мне дали право туда вас потащить.
Гость подошел к окну, еще не задернутому занавесью. Где-то вдали, резко сменяясь, пробегали нерусские буквы светящейся рекламы, а выше, во мгле неба виднелись неяркие звезды.
— Славно, — буркнул Челышев.
Онисимов понял: Василий Данилович был бы не прочь выбраться под звезды, посидеть, походить вдвоем в обширном, темнеющем за стеклами парке посольства. Однако Александр Леонтьевич, и прежде то почти не знававший прогулок, здесь нарочито избегал выходить по вечерам на свежий воздух. Он заметил, что под открытым небом после захода солнца его почему-то пронимает озноб. А затем ночью, в постели, вдруг выступал, случалось, пот, сразу делавший мокрой рубашку. Ничего подобного с ним раньше не бывало. Правда, эта непонятная потливость еще очень редко посещала его и то лишь — так по крайней мере казалось Онисимову, — если он бывал вечером на воздухе. Александр Леонтьевич не придавал значения этим неприятным странностям — не он один плохо переносил непривычно холодное здешнее лето. И все же предпочитал проводить свободные вечера в четырех стенах. Кстати, под крышей и не очень разыгрывался кашель, на воле же Онисимов обязательно раскашливался.
— Сыровато, — произносит он, глядя в окно.
Таков его ответ на невысказанное предложение Василия Даниловича.
— А не наплевать ли?
Склонив набок большую, словно бы тяжеловатую голову, Онисимов смотрит на красноватое, обветренное лицо Челышева. Сколько же лет этому трехжильному доменщику-академику? Кажется, семьдесят три. А Онисимову лишь пятьдесят четыре. Подмывает откровенно сказать: «Для меня сыро». Нет, Александр Леонтьевич не разрешает себе жалобной нотки.
— Вы тут у меня на попечении. И извольте меня слушаться.
Он ведет гостя в кабинет. Туда проникает сквозь окно слабое свечение неба. Смутно поблескивает навощенный паркет. Различим запах табачного дымка. Она, эта комната, действительно излюбленная Онисимова. Он с некоторых пор стал даже стелить себе здесь на ночь и, истребляя сигарету за сигаретой, все же одолевал бессонницу, забывался в недолгом, неглубоком сне.
Маленькая рука Онисимова притрагивается к выключателю. Вспыхнувшее под потолком созвездие лампочек озаряет увесистый, о двух тумбах, не причастный к мебельным модам письменный стол, телефонный круглый столик, громаду несгораемого шкафа, еще один круглый стол, что служит подставкой огромному глобусу, пару кресел, обтянутых исчерна-зеленой искусственной кожей, такой же обивки диван, несколько стульев, книжный шкаф, под стеклами которого видны тисненные золотом корешки томов Большой Советской Энциклопедии и различных справочников. На стене против дивана бликами электричества сияет написанный маслом портрет в золоченой раме. Стоя во весь рост, сложив на животе руки, одетый в форму генералиссимуса Сталин глядит перед собой. Сколько раз в часы бессонницы Онисимов словно встречался с ним глазами. И предавался своим думам, перебирая прожитое.
На письменном столе лежит забытая здесь красная коробка сигарет «Друг».
Челышев располагается в кресле, удобно вытягивает длинные ноги. Онисимов пристраивается рядом на стуле, подымливает табаком. Сначала они говорят о делах. Корректные тишландцы под разными предлогами не пускают советских инженеров на свои металлургические предприятия, не показывают и судостроение. Онисимов пытался оказать содействие, но и он натолкнулся на вежливый отказ. Пока что, как видно, не придется осмотреть здешнюю металлургию. Но если наш брат, советский дипломат, здесь бездельничать не будет, то…
— Приезжайте, Василий Данилович, снова через год-другой. Возможно, некоторые двери нам откроются.
Челышев встает, широким шагом идет к глобусу, медленно вращает большущий, иноземного изготовления шар, по которому растеклась голубизна океанов, разбирает, не прибегая к очкам, нерусские мелкие и мельчайшие надписи. Нет, вряд ли он сюда вторично выберется. Надо и честь знать, другим тоже хочется свет повидать, а он, Челышев, наездился, пусть посидит дома.
Онисимов слушает с улыбкой. Конечно, наверху именно так и скажут, если Челышев через год-другой вдруг выскажет желание вновь посетить эту страну. Александру Леонтьевичу приятна откровенность гостя, его лишенный дипломатических околичностей тон. Этак же начистоту Василий Данилович держался с ним и в канувшие времена. Ей-ей, можно подумать, что он, Онисимов, разговаривает с Василием Даниловичем в далекой-далекой Москве в своем кабинете в Охотном ряду. Вот только глобуса у Онисимова там не было. Опять его посасывает знакомая тоска, усилием воли он с ней легко справляется, продолжает слушать.
Челышев говорит о предстоящем Всемирном конгрессе металлургов в Люксембурге. Намечена работа шести секций, в программу включены почти двести докладов. Десятка три сообщений готовят и советские металлурги. Он перечисляет важнейшие темы. Организационный Комитет конгресса кое-что в нашей заявке с почтением сократил, лишь доменщиков не обидел. Дело понятное. Всем интересно, как же эти русские на своих домнах обставили американцев. Обзор доменного дела в СССР вынесен на пленарное заседание конгресса. С этим обзором там выступит Головня Петр.
Впервые в этот вечер тут произнесено имя Петра Головни. Уже его назвав, Челышев тотчас вспоминает: Петр Головня плотно сомкнул губы, ничего не произнес, когда министерские работники просили передать приветы Александру Леонтьевичу. Ну, а Онисимов? Нет, он никак не реагирует, даже ничтожная тень не пробегает по лицу, на четкого рисунка губах по-прежнему видна легкая улыбка. Возможно, для него давняя стычка с Петром Головней — или, пожалуй, лучше сказать, схватка — уже погребена под пеплом времени, не вызывает волнения. Что же, Челышев не намеревается теперь вновь в это встревать. Опять раздается его