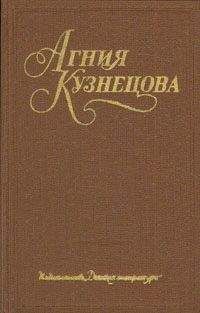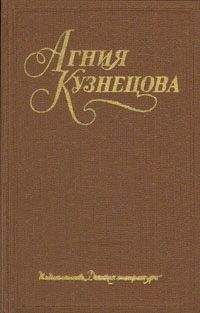— Я сыта! Вина же я никогда не пила и не хочу его! Я бы лучше выпила воды, — тихо, не подымая головы, произнесла молодая девушка.
— Воды! — весело продолжал он. — Кто же пьет воду? Ты только попробуй, это легкое вино, сладкий икем — он тебе понравится.
Сергей Сергеевич пододвинул к ней стакан. Ирена молчала.
— Скушай еще вот эту пожарскую котлетку, здесь их готовят мастерски, — положил ей князь из дымящейся серебряной кастрюльки кушанье на тарелку.
— Я не могу! — прошептала она.
— Тебе со мной скучно, ты не любишь меня, если не хочешь ни позавтракать со мной, ни выпить за мое и твое здоровье, за наше будущее счастье.
Она подняла на него глаза и окинула его взглядом грустного упрека.
— Если я не прав — докажи, выпей и съешь! — продолжал настаивать он, восторженно любуясь ею. Ее личико, подернутое дымкой грусти, казалось еще более прелестным.
Ирена быстро взяла свой стакан, чокнулась с князем и выпила почти залпом.
— Вот теперь я тебе верю, — засмеялся он.
Она принялась за котлету, но, видимо, ела насильно. Он налил ей бокал шампанского.
— Еще? — с испугом спросила она.
— За здоровье твоей мамы! — произнес он вместо ответа и чокнулся.
— Мамы, мамы! — порывисто повторила она и быстро выпила бокал.
С непривычки это было чересчур много. Она заметно опьянела, глаза ее заблестели, лицо покрылось ярким, почти неестественным румянцем, — она была восхитительна.
Князь пожирал ее глазами, но выжидал, боясь испортить все дело резкою выходкою.
Она весело болтала с ним, лакомясь сочною грушею дюшес, на тему приезда ее матери, предстоящей свадьбы. Она описывала ему тот подвенечный наряд, в котором она видела себя во сне.
Он не слыхал половины из ее болтовни и машинально отвечал на ее вопросы.
Кровь бросалась ему в голову, в висках стучало.
Он был пьянее, чем она, единственно от ее близости к нему.
— Мы будем венчаться здесь, в Москве?
— Не знаю, может быть, здесь, а может быть, и за границей.
— Мы поедем за границу, а не сейчас в Петербург?
— Нет, сперва за границу.
— Так и есть, так и есть, то же говорила и мама, — прошептала она. — Мне бы хотелось венчаться здесь; конечно, мама поедет с нами и за границу, но здесь на нашей свадьбе была бы и Ядвига.
При воспоминании о покинутой ею так неожиданно няне сердце Ирены болезненно сжалось.
"Бедная, она просто измучается, прежде чем узнает о моем счастии; ищет теперь, чай, по всему лесу, чего-чего не передумает", — пронеслось в ее голове.
— Когда мама приедет сюда, можно будет сейчас же дать знать няне Ядвиге, что я здесь? — спросила она.
— Конечно, можно…
— Что же мамы все нет?
— Вероятно, ее что-нибудь задержало.
Он пересел к ней на диван и обнял за талию. Рена не сопротивлялась.
Он привлек ее к себе, она почувствовала дрожь его руки и взглянула ему прямо в лицо.
Выражение этого лица, виденное ею впервые, поразило ее — она не узнавала милые ей, теперь искаженные волнением черты, взгляд его глаз не был тем бархатным, который она привыкла видеть покоящимся на себе. Он горел каким-то диким, страшным огнем.
Она задрожала и сделала невольное движение, чтобы вырваться из его объятий, но безуспешно, он сжимал ее все с большею и большею силой, покрывая ее лицо и шею жгучими поцелуями.
Вдруг она истерически зарыдала.
Первый стон, вырвавшийся из груди трепетавшего в его мощных объятиях слабого существа, моментально отрезвил его.
Он выпустил ее из своих объятий. Она упала поперек турецкого дивана, продолжая оглашать комнату истерическими рыданиями.
Сергей Сергеевич бросился в кресло.
— Не могу, не могу! — простонал он. Рыданья Ирены прекратились. Князь тоже пришел в себя.
Он прошел в спальню, взял с туалетного столика одеколон и стал приводить в чувство все еще лежавшую недвижимо молодую девушку. Он смочил ей одеколоном голову и виски, дал понюхать солей, пузырек с которыми всегда находился в его жилетном кармане. Она понемногу стала приходить в себя.
Но едва она открыла глаза и увидала его, как снова вздрогнула.
— Рена, дорогая моя, что с тобой? — нежно успокаивал он ее.
Она молча села на диван, склонив голову, и крупные слезы неудержимо полились из ее глаз.
— О чем же ты плачешь? Я тебя испугал? Прости меня, не плачь, взгляни на меня.
— Я боюсь тебя, боюсь! — прошептала она сквозь слезы.
— Чего же ты боишься, ведь ты же знаешь, как я люблю тебя.
Он наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб.
— Нет, нет, потом, при маме, на балу, на свадьбе… — бессвязно лепетала она.
Он стал ходить по комнате, по временам взглядывая на сидящую все в одной и той же позе Ирену.
Вид этого плачущего, испуганного ребенка пробудил в его сердце жалость. Первой мыслью его было отвезти ее назад, на ферму, но он тотчас же прогнал эту мысль. Трепет, хотя и болезненный, ее молодого, нежного тела, который он так недавно ощущал около своей груди, заставил его содрогнуться при мысли отказаться от обладания этим непорочным, чистым созданием, обладания, то есть неземного наслаждения. Рука, протянутая уже было к звонку, чтобы приказать готовить лошадей, бессильно опустилась.
"Нет, она будет моей во что бы то ни стало, и будет моей добровольно, даже если бы мне пришлось для этого пойти на преступление, лишиться половины моего состояния!" — мысленно решил он и снова плотоядным взглядом окинул сидевшую в той же позе молодую девушку.
Но вот она подняла голову и посмотрела на него умоляющим взглядом.
— Отвези меня назад, к няне! — заговорила она, точно угадав промелькнувшую в его голове за минуту мысль.
Скажи она эту фразу на мгновение ранее, он, быть может, и согласился бы, но теперь он снова надеялся.
На что, он не знал и сам.
"Она будет моей, она должна быть моей", — проносилось в его голове. Она повторила просьбу.
— Я не могу этого сделать для тебя, — отвечал князь деланно равнодушным тоном. — Ты сама знаешь, что ты здесь по воле твоей матери. Когда она приедет, ты можешь сказать ей, что желаешь возвратиться в Покровское или пансион, что отказываешься быть моей женой…
— Нет, нет, я не отказываюсь, я не хочу ни в Покровское, ни в пансион, прости меня, я хочу только поскорей увидеть маму, обвенчаться с тобой и уехать за границу, — заметила Рена, поспешно утирая все еще продолжавшие навертываться на глаза слезы.
Он снова сел рядом с ней на диван.
Она немного отодвинулась от него.
Не давши ей заметить, что это не ускользнуло от его внимания, он своим вкрадчивым, привычным для нее тоном стал говорить, что ей нечего беспокоиться, что дурного с ней случиться ничего не может, а что если ее мать не приедет ни сегодня, ни завтра, то, вероятно, потому, что ее задержали в Петербурге неотложные дела. Ведь она сама знает, не раз говорила ему, что ее мать настолько связана делами, что не может даже для нее уделить лишний час времени. Что он завтра же поедет к начальнице пансиона взять ее бумаги, о чем Анжелика Сигизмундовна просила будто бы его в последнем письме, а от г-жи Дюгамель, вероятно, узнает, где находится ее мать и что ее задержало. Наконец, она прямо могла проехать за границу, оставив на его имя или на имя своей дочери письмо у начальницы пансиона.
Он говорил, не составив себе еще никакого плана дальнейших действий, но по мере того, как высказывал Рене успокоительные доводы, этот план в общих чертах созревал в его голове.
Молодая девушка, желающая верить, — верила и постепенно успокаивалась.
Не прошло и получаса, как она весело болтала с ним, с радостным любопытством слушала его рассказы о петербургской и заграничной жизни, описания Парижа, Рима, Венеции и других замечательных городов и местечек Западной Европы.
Спокойная и довольная расхаживала она по комнатам, любовалась в зеркало на себя и на надетые на ней драгоценные вещи.
Он воспользовался ее расположением духа, позвонил и приказал явившемуся на зов Степану прислать барышне ее горничную.
Степан вышел, и через минуту в комнату вошла бойкая и расторопная молодая девушка, брюнетка, с миловидным, несколько нахальным лицом. Это была служанка, нанятая исполнительным камердинером и получившая от него точные инструкции обращения и разговора со своей молодой госпожой.
Она предложила Ирене пройти в спальню, где в гардеробе оказалось несколько изящных костюмов, сделанных по мерке платьев княжны Юлии, с которой Ирена была почти одного роста и сложения, и заказанных предусмотрительным князем.
Молодая девушка с восторгом стала с помощью Фени — так звали горничную — примерять обновки и наконец остановилась на голубом из легкой шелковой китайской материи платье, которое ей понравилось более всего и с которым она не хотела расстаться.