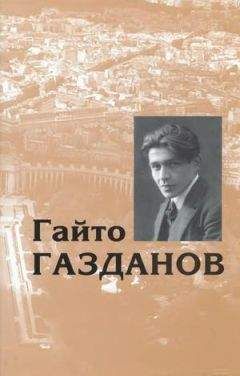В один прекрасный день я получил месячное жалованье, ушел – и больше никогда не вернулся в это учреждение. Оно вчинило мне иск, обратилось в суд и послало туда своего профессионального ходатая, очень типичного сутягу в черном костюме, который кричал перед носом тихого старичка, мирового судьи, что общество этого так не оставит, что я ушел без предупреждения, что оно требует с меня уплаты тысячи франков и судебных издержек, что мое поведение возмутительно и он отказывается его квалифицировать. Я пожал плечами и ответил, что кричать, во всяком случае, не стоит, и что если он считает, будто этот крик может на меня подействовать, то это заблуждение, и что если фирма возлагает большие надежды на мою тысячу франков, то это очевиднейшая иллюзия. Так как я, уходя, сослался на болезнь – нервное переутомление, – то старичок судья предложил мне отправиться к судебному врачу на освидетельствование. Я согласился – и еще через полтора месяца получил вызов к доктору, куда я явился и долго ждал в пустынной приемной; на столе лежали прошлогодние номера «Иллюстраций» и «Orientales» Гюго, которые я от скуки начал читать. Наконец пришел доктор; он с удивлением на меня посмотрел и спросил, в чем дело. Я объяснил. Доктор тоже был старый человек – как мой шеф, как архивариус, как судья, – и я еще раз подумал, что во Франции все сколько-нибудь прочные и спокойные должности заняты очень пожилыми людьми.
– Как ваша фамилия?
Я ответил.
– Подождите здесь.
И он ушел. Я снова открыл «Orientales» и продолжал читать. Прошло около сорока минут. Потом он опять бесшумно вошел и сказал:
– Извините, пожалуйста, как, вы сказали, ваша фамилия, какая-то иностранная, кажется?
Я повторил.
– Хорошо, подождите, пожалуйста.
Прошел еще час, я выкурил три папиросы, прочел несколько статей в «Иллюстрациях» и опять взялся было за «Orientales», когда он вошел наконец в третий раз и объявил, что будет меня осматривать. Но тут он вспомнил, что не захватил с собой полотенца, вышел за полотенцем и пропал еще минут на десять. Вернувшись в приемную, он предложил мне следовать за ним, и мы прошли в его кабинет, на столе которого лежала развернутая книга; я посмотрел мельком на нее и прочел одну строку: «Граф, как мы помним, ел за столом мало».
Это был «Граф Монте-Кристо» – и я понял тогда, почему доктор так долго отсутствовал: он читал эту книгу, от которой, по-видимому, не мог оторваться.
Он меня выслушивал, вздыхал и затем спросил:
– На что вы жалуетесь?
– Ни на что, – ответил я. – Я пришел сюда по вашему вызову, меня направил к вам мировой судья для освидетельствования, так что это визит не личного, а судебного порядка, понимаете, доктор?
– А, – сказал он, – это другое дело. Извините, пожалуйста, я опять забыл, как ваша фамилия.
У меня вдруг появилось желание сделать трагическую паузу, подойти к нему вплотную и сказать значительным шепотом: Эдмонд Дантес.
Но я удержался.
– Осмотр кончен, можете идти.
– Благодарю вас, доктор. Можно узнать результат освидетельствования?
– Нет, месье; но он будет сообщен мировому судье.
Он был действительно сообщен, и, когда я потом был у судьи, я увидел в его руке листок с неразборчивыми словами против каждой графы, единственное, что я мог прочесть, было: «общее состояние – превосходное».
Профессиональный сутяга торжествовал; и этот праздный его восторг ничем нельзя было нарушить, хотя я ему сказал, что результат освидетельствования – только подробность, лишенная значения и которая ничего не изменит. Время проходило, судебная процедура шла своим чередом; я получил вызов в суд, но в тот день проспал и там не был. Потом я начал получать письма от судебного пристава, в которых неуклюжим юридическим языком мне объяснялось, что он уполномочен получить с меня такую-то сумму, кажется около полутора тысяч франков, и мне предлагалось заплатить ее – сначала в восьмидневный, затем в трехдневный, затем в двухдневный срок; последнее письмо предупреждало меня, что завтра утром на мое имущество будет наложен арест. Но у меня не было никакого имущества, я жил в гостинице, сутками не бывал дома, – и я никогда так и не узнал, был ли наложен хотя бы символический арест на это имущество, существовавшее только в предположениях французской юстиции.
* * *
Об этом времени, об этой службе с константинопольским списком представителей и амстердамским корреспондентом, у меня осталось еще другое воспоминание: все эти три месяца, каждый день, мне смертельно хотелось спать. Я снимал тогда комнату – по нелепой случайности – в еврейском районе, на севере Парижа, возле улицы Маркадэ, обедал в разных ресторанах и почти ежедневно бывал в Латинском квартале, где жила женщина, одно присутствие которой мне могло в те времена заменить весь мир. Я возвращался домой ночным автобусом, в четвертом часу утра, вставал в семь и ехал на службу; и после завтрака, когда я приходил в свое бюро, все звенело и качалось передо мной, и я оживал только к вечеру. Иногда я ловил себя на том, что ничего не слышу и не понимаю из всего, что происходило кругом; и однажды, в ночь с субботы на воскресенье, когда я шел пешком через Париж, я два или три раза заснул на ходу и просыпался, лишь пройдя несколько шагов, как солдат на длинном ночном переходе. Это было время бесконечного душевного томления, наверное неповторимого в моей жизни, и те места, где я тогда бывал, я вижу отчетливо и ясно перед собой, как только моя мысль возвращается к этому периоду: бульвар Араго и густые его деревья, закрывающие круглые фонари, Фонтенбло и Marly le Roi, куда я ездил по воскресеньям, ночные кабаре и музыкальные волны этих вздорных романсов и мелодий, в которых я находил безнадежную и печальную очаровательность; она существовала, я думаю, не сама по себе, а возникала потому, что был третий или четвертый час утра, и рядом со мной – эти незабываемые, далекие глаза на утомленном ночью и музыкой лице.
И все-таки это время, несмотря на хроническое недосыпание и службу в бюро, было, в общем, чрезвычайно благотворно для меня, в том смысле, что все было сосредоточено тогда в одной идее, идее личного и иллюзорного счастья, и остальной мир перестал существовать. Тогда это было полнее и сильнее всего; это продолжалось и позже, еще много лет, но потом этому мешала работа, которой я должен был уделять слишком много времени, и целый ряд мелких неудач, но все-таки долго еще то, что я видел, узнавал и наблюдал, казалось мне неотчетливым и мутным, так как было заслонено слишком бурной личной жизнью, настолько эгоистической и непрерывной, что я, конечно, не сумел увидеть и понять и десятой части того, что понял бы и узнал, если бы не эта душевная загроможденность и занятость. Это было благотворно для меня, потому что позже, когда в силу многочисленных и сложных причин выяснилась несомненная несостоятельность моего длительного и напрасного ожидания и почти стеклянная хрупкость всего, на что я рассчитывал, когда я начал приходить в себя, я увидел мир не таким, каким он мне казался раньше; он точно медленно выступал из темноты. Это было похоже на то, как если бы я вернулся после долгого отсутствия в страну, которая неузнаваемо изменилась за это время.
До сих пор мне много раз приходилось начинать жизнь сначала, это объяснялось необыкновенными обстоятельствами, в которых я очутился, – как и все мое поколение, – Гражданская война и поражение, революции, отъезды, путешествия в пароходных трюмах или на палубах, чужие страны, слишком часто меняющиеся условия, одним словом, нечто резко противоположное тому, что я привык себе – давным-давно, точно в прочитанной книге, – представлять: старый дом, с одним и тем же крыльцом и той же входной дверью, теми же комнатами, той же мебелью, теми же полками библиотеки, деревьями, которые, как архивы моего бюро, существовали до моего рождения и будут продолжать расти после моей смерти, и лермонтовский дуб над спокойной моей могилой, снег зимой, зелень летом, дождь осенью, легкий ветер российского, незабываемого апреля месяца; много книг, прочитанных много раз, возвращения из путешествий и это медленное очарование семейной хроники, одно могучее и длительное дыхание, слабеющее по мере того, как будут замедляться моя жизнь, терять звучность голос, постепенно закостеневать усталые суставы, седеть волосы, хуже видеть глаза, до тех пор, пока в один прекрасный день, оглянувшись на секунду, я не увижу себя точно похожим на моего деда, в теплую весеннюю погоду сидящим на скамейке, под деревом, в шубе и в очках, и буду знать, что годы мои сочтены, и прислушиваться к шуму листьев, чтобы запомнить его еще раз, навсегда, и чтобы не забыть его, умирая. Тогда, – если бы это было так, – я бы знал и понял бы, наверное, гораздо больше того, что знал и понял теперь, и я бы смотрел на мир спокойными и внимательными глазами. Теперь, вдали от моей родины, от возможности какого бы то ни было спокойного понимания, я был бы обречен на медленное и постепенное ослепление, на уменьшение интереса ко всему, что меня непосредственно не касается, и изменения, которые происходили бы, были бы, наверное, незначительны – ряд мелких ухудшений и больше ничего. Но после этого душевного томления, после того как я прожил много времени вне каких бы то ни было соображений, кроме соображений личных, тем более всеобъемлющих и сильных, чем более они были узки, после этого – я вновь начал видеть и слышать то, что происходило вокруг меня, и оно показалось мне иным, чем раньше.