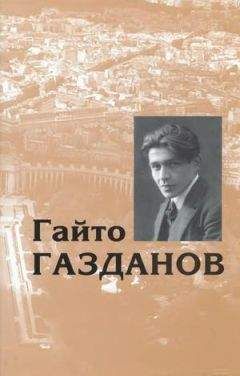– Послушайте, голубчик, – сказал я; он повернулся как ужаленный. – Я надеюсь, что у вас руки не парализованы?
– Нет, почему?
– Я просто не вижу, почему бы я вдруг стал носить ваши чемоданы на пятый или вообще на какой бы то ни было этаж. Если бы мне нужно было переменить колесо, неужели вы думаете, что я обратился бы к вам и попросил бы вас сделать это вместо меня? Нет, не правда ли?
Он посмотрел на меня и потом спросил:
– Вы иностранец?
– Нет, – ответил я.
И всякий раз, когда возникали недоразумения такого рода, все улаживалось, как только выяснялось, что я русский; а это узнавалось немедленно, мне было достаточно передать свои бумаги полицейскому. Недоразумения эти не имели последствий потому, что я не совершал, в сущности, никакого проступка и люди, жаловавшиеся на меня в полицию, действовали так не для защиты своих интересов, а исключительно оттого, что были задеты их прочные взгляды на то, какими должны быть отношения между разными категориями граждан. С пассажирами попроще – рабочими, мелкими коммерсантами, торговками – у меня никогда не бывало подобных разговоров, они обращались ко мне как к равному, и если спорили, то спорили как с равным. Но клиенты в вечерних костюмах из тех кварталов Парижа, где были дорогие квартиры, могли иногда вызвать припадок бешенства у самого спокойного человека, – вроде дамы, которую я вез однажды на авеню Фош и которая, проехав несколько сот метров, застучала зонтиком в стекло, отделявшее ее сиденье от моего, и закричала:
– Мы едем не на похороны, я надеюсь? Побыстрее, пожалуйста.
Обычно в таких случаях я нажимал изо всех сил на тормоз и говорил:
– Если это вам не нравится, слезайте и берите другую машину.
Но в тот день я был в особенно дурном настроении. Я надавил на акселератор и повел автомобиль настолько быстро, насколько это было вообще возможно. Мы обгоняли другие машины, проскакивали перекрестки, чуть не въехали в автобус; она кричала, что это самоубийство, что я сошел с ума, но я не обращал на ее крики никакого внимания. Наконец, доехав до авеню Фош, я замедлил ход.
– Вы сумасшедший! – кричала она. – Вы хотели меня убить! Я подам на вас жалобу!
– Вам нужно было бы лечиться, мадам, – сказал я, – мне кажется, что состояние вашей нервной системы не может не внушать некоторого беспокойства. Хотите, я укажу вам адрес клиники?
– Что это за комедия? – Она была возмущена до последней степени. – Вы, может быть, не знаете, кто я такая?
– Этого я действительно не знаю.
– Я жена… – Она назвала фамилию известного адвоката.
– Очень хорошо. Но почему вы рассчитываете, что это должно произвести на меня какое-то впечатление?
– Как, вы не знаете фамилии моего мужа?
– Слышал как будто, он, кажется, адвокат?
– Да, во всяком случае, не шофер такси.
– Я полагаю, мадам, что из этих двух профессий – профессия шофера, пожалуй, честнее.
– А, вы революционер! – сказала она. Несмотря на неприятный оборот, который сразу же принял разговор, она не уходила и не платила мне; счетчик продолжал идти. – Я ненавижу эту породу людей.
– Потому что вы, вероятно, ничего не знаете ни о революционерах, ни о социальных и экономических вопросах, – сказал я. – Заметьте, что я очень далек от намерения поставить вам это в упрек. Но имейте, по крайней мере, такт не говорить о вещах, о которых вы не имеете представления.
– Никогда в жизни никто со мной так не разговаривал, – сказала она. – Какая удивительная наглость!
– Это очень просто, мадам, – ответил я. – Все, кого вы знаете, стремятся сохранить либо ваше знакомство, либо вашу дружбу, либо вашу благосклонность. Мне все это совершенно безразлично, через несколько минут я уеду, и я надеюсь, что больше никогда вас не увижу. Почему же, – принимая во внимание эти условия, – я стал бы говорить не то, что думаю?
– И вы думаете, что я просто невежда и дура?
– Я бы не настаивал на последнем определении; но мне трудно было бы от вас скрыть, что первое мне кажется соответствующим действительности.
– Хорошо, – сказала она. – Пока что я вам заплачу и дам даже чаевые.
– Вы можете их оставить себе, мадам, я вам их дарю.
– Нет, нет, вы их заслужили, хотя бы за ваш очаровательный разговор.
– Я в восторге, мадам, что он вам понравился.
И тогда она задала мне последний вопрос:
– Скажите, пожалуйста, вы не иностранец?
– Нет, мадам, – ответил я. – Я родился в доме № 42 на улице де Бельвиль, у моего отца там мясная, вы, может быть, ее случайно знаете?
Думая об этом времени, я часто вспоминал те рисунки, которые представляют вертикальный разрез мотора или машины. Благодаря неисчислимым случайностям, в которые входили с равным правом и исторические события, и соображения географического порядка, и всевозможные мелочи, – их нельзя было ни учесть, ни предвидеть, ни даже представить себе вероятность их возникновения, – вышло так, что моя жизнь проходила одновременно в нескольких областях, не имевших никакого соприкосновения друг с другом. Нередко на протяжении одной и той же недели мне приходилось присутствовать на литературном и философском диспуте, разговаривать вечером в кафе с бывшим министром иностранных дел одного из балканских государств, рассказывавшим дипломатические анекдоты, обедать в русском ресторане с бывшими людьми, превратившимися в рабочих или шоферов, – и, с другой стороны, попадать в кварталы, заселенные мрачной парижской нищетой, беседовать с русскими «стрелками» или французскими бродягами, от которых следовало держаться на некотором отдалении, так как они все издавали резкий и кислый запах и он был так же неизбежен и постоянен, как мускусная вонь известных пород животных; возить проституток, жаловавшихся на плохие заработки, стоять за цинковой стойкой, рядом с поминутно сменявшимися сутенерами, моими знакомыми по Монпарнасу, и, наконец, сидеть часами, в глубоком и мягком кресле, в квартире в Пасси и слышать, как женский голос – я знал его много лет и никогда не забывал ни одной его интонации – говорил:
– Напомните мне эту фразу, которую вы недавно цитировали, это, кажется, из Рильке, о чувстве. Чувства – это единственная область, которую вы немного знаете, в остальном вы слепы и глухи.
А на следующую ночь, когда я остановился со своим автомобилем на улице Риволи и закрыл глаза, вспоминая этот разговор и воскрешая в памяти каждый звук этого голоса, ко мне подошел оборванный негр, попросил папироску, закурил ее и сказал:
– И подумать только, что я, который раздавал папиросы пакетами, вынужден теперь просить одну папиросу у вас. – И тотчас же, повернув голову направо, прибавил: – Она опять здесь, стерва!
Мимо нас проходила по тротуару сильно прихрамывающая женщина.
– Посмотрите, – сказал негр с презрением, – это называется женщина!
– В чем ты ее упрекаешь?
– Это алкоголичка, месье, вот в чем я ее упрекаю; ее надо упрекнуть в пьянстве, вот что я ей ставлю в упрек. – И он закричал ей вслед: – Ты опять пьяна?
– Кусок грязного негра, – ответила она.
– Что? Ты хочешь, чтобы я тебе морду набил?
Он кричал с очень свирепой интонацией, но не двигался с места, и когда оборачивался ко мне, то смотрел ленивым взглядом своих черных глаз с желтоватыми белками.
– Вы знаете, как здесь работают?
– Нет, старик, не знаю.
– Так вот, месье, здесь нет гостиниц. Такой здесь квартал. Есть «Ритц» и «Мерис», но это для королей и герцогов, снять комнату там нельзя.
– И что же?
– Так работать приходится на скамейках Тюильри. Клиент садится на скамейку, а женщина садится на него верхом.
– А?
– Да, так здесь работают. Так вот эта стерва была такая пьяная вчера ночью… Ее клиент сидел и ждал ее, а она никак не могла сесть сверху как следует. Было просто стыдно смотреть на это, месье, – женщина в таком состоянии, что она не могла даже делать свою работу.
* * *
Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печать моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, – неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление оттого, что все не так, как должно было бы быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти, – я входил, не зная как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я наконец дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, – именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины.