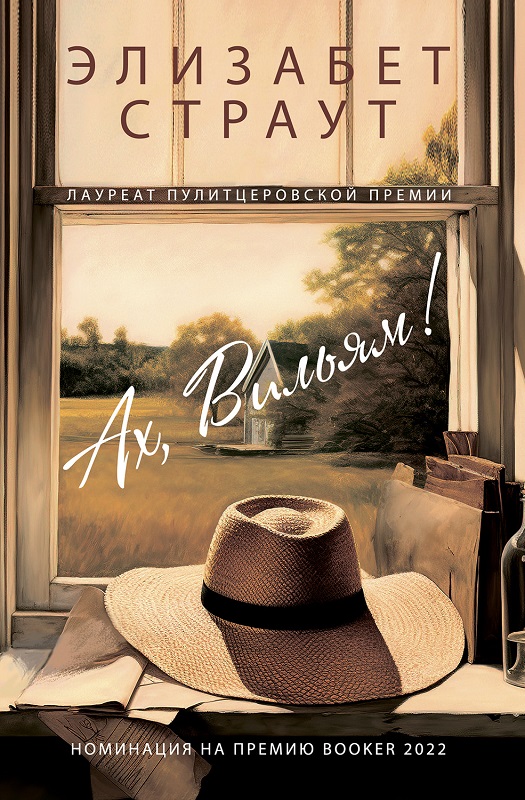полноценная; как я уже говорила, по ней было видно, что на глубинном уровне она чувствует себя в своей тарелке. Ее дом был заставлен фотографиями родных, в нем выросла ее мать. Я тихо недоумевала, представляя, как она живет в этом доме своей матери и ухаживает за розовым кустом своей бабушки. Но с чего бы мне удивляться? Наверное, все дело в том, что она и правда ощущала себя там как дома, а я всегда была этого чувства лишена. Мать любила ее, Лоис повторила это не раз. Разумеется, она говорила о Мэрилин Смит, второй жене своего отца. Но Лоис Бубар была не похожа на человека, которым пренебрегали в первый год жизни. Наверное, Кэтрин тоже ее любила. Брала на руки и прижимала к себе, волновалась из-за первой болезни, радовалась, когда малышка впервые встала на ноги, держась за прутья детской кроватки. Наверное, так и было, говорила я себе.
Нам этого уже не узнать.
Зато я точно знаю, что моя мать была другой. И какую цену я за это заплатила, и какую громадную цену заплатили мои брат и сестра.
Когда я училась на первом курсе, наш преподаватель английского часто приглашал группу к себе в гости (группа у нас была небольшая). Там мы виделись с его женой. Со временем я сдружилась с преподавателем и его женой, и раз она сказала мне — я тогда уже была старшекурсницей, — она сказала:
— Никогда не забуду, как впервые увидела тебя у нас дома. Я сразу подумала: «Эта девочка совершенно не знает себе цену».
Я не стану излагать историю своего брата — это слишком болезненно. Он добрый человек, всю жизнь проживший в доме наших родителей. Насколько мне известно, у него никогда не было девушки — или молодого человека.
Говорить о судьбе сестры тоже больно. Характер у нее боевой, думаю, это ей помогло. У нее пятеро детей, младшая пошла по моим стопам: поступила в колледж по стипендии. Но спустя год вернулась домой, теперь она работает в том же доме престарелых, что и моя сестра.
Судьбы моих брата с сестрой — я вижу это все отчетливее, хотя туман еще не рассеялся — не похожи на судьбы людей, с рождения окруженных любовью.
Я иногда удивляюсь — как удивлялась и та милейшая женщина, мой психиатр, — как это я вообще способна любить. Она сказала: «На вашем месте, Люси, многие даже пытаться бы не стали». Что же такое похожее на радость разглядел во мне Вильям?
Это и была радость.
Но как?
* * *
В студенческие годы, когда я уже снимала квартиру с друзьями — хотя большую часть времени жила у Вильяма, — по пути на занятия я проходила мимо одного дома, и у женщины, которая там жила, были дети, и каждый день я видела ее в окно, она была красивая — как мне кажется, — и по праздникам стол у них ломился от угощения, и дети, уже почти взрослые, сидели за этим столом, а ее муж — я предполагала, что он ей муж, — сидел во главе, и я проходила мимо их окон и думала: «Вот какой я стану. Вот что у меня будет».
Но я писатель.
А это призвание. Помню, единственный человек, хоть чему-то меня научивший по части писательства, дал мне совет: «Не залезай в долги и не заводи детей».
Но завести детей мне хотелось больше, чем писать. И я их завела. Но и писать мне было необходимо.
В последнее время я иногда думаю: «Жаль, что все не сложилось иначе», и, пусть это сентиментально и глупо, пусть это полная ерунда, в голове у меня мелькает:
«Я бы все отдала, весь свой писательский успех, я отдала бы все — и глазом не моргнув, я бы все отдала — в обмен на крепкую семью, где дети знают, что горячо любимы, а родители не разошлись и тоже любят друг друга».
Вот о чем я иногда думаю.
Недавно я рассказала об этом одной своей нью-йоркской подруге, она тоже писатель, и детей у нее нет, и она выслушала меня, а потом сказала: «Люси, я тебе ни за что не поверю».
Мне стало чуточку тошно от этих слов. К горлу подкатило одиночество. Потому что я сказала правду.
* * *
Насчет потенциальной Пэм Карлсон я не ошиблась. Через месяц с лишним после возвращения из Мэна Вильям позвонил мне и сказал:
— Люси, можешь кое-кого загуглить? — И продиктовал имя и фамилию одной женщины, и при первом же взгляде на нее я сказала:
— Нет, она тебе не подходит… Боже, нет.
И тогда Вильям сказал:
— Господи, Люси, спасибо.
Раньше, в перерывах между нашими браками — когда я была не замужем, а Вильям был не женат, — мы часто вот так помогали друг другу, давали советы, я имею в виду.
Не могу сказать, что именно в этой женщине так меня оттолкнуло, но на снимке она позировала в длинном платье на каком-то светском мероприятии, на вид она была лет на десять меня моложе, за спиной у нее виднелся красивый интерьер, но что-то — то ли в ее лице, то ли в самом ее существе — оттолкнуло меня с первой же секунды, какая-то претензия на особое отношение, что ли, и Вильям сказал:
— Я начал ухаживать за ней, и теперь она ведет себя очень напористо, недавно она пригласила меня в гости, так я еле ноги унес.
На что я ему сказала:
— Больше к ней не ходи, это не то, что тебе нужно.
А он мне:
— Спасибо, Люси. — И после паузы: — Теперь она меня возненавидит, я как бы завоевал ее, а потом… Боже, меня от нее воротит.
— Возненавидит, и ладно, — сказала я.
— И то правда, — сказал Вильям.
Так что вот.
* * *
В последнее время я иногда ощущаю, как вокруг опускается занавес моего детства. Удушливый кошмар, тихий ужас — вот какое чувство преследовало меня все школьные годы, и на днях — вшух! — оно вновь ворвалось в мою жизнь. Такое тихое, но такое яркое воспоминание, чувство обреченности, с которым я росла, зная, что мне никогда не вырваться из этого дома (разве только в школу, а школа была для меня всем, хоть со мной никто и не дружил, все равно я вырывалась из дома), — когда все это вернулось, я ощутила жуткую, гнетущую тоску, и не было от нее спасения.
В детстве у меня не было спасения, вот что я имею в виду.
Как-то раз я выступала на книжном мероприятии на Дальнем Юге — незадолго до того, как заболел Дэвид, — и наутро после мероприятия организаторша сказала мне по дороге в аэропорт: «Вы не похожи на жительницу большого города». Эта женщина росла в Нью-Йорке, и я не знала, что и думать; по-моему, она хотела меня задеть.
Но стоило ей сказать это, и я представила крошечный дом своего детства. И сразу погрузилась во мрак, и с тех пор кое-что не идет у меня из головы.
Что с возрастом от меня снова начинает вонять, что люди порой ведут себя так — на мой взгляд, — будто я попахиваю. Считала ли так организаторша, отвозившая меня в аэропорт, я не знаю.
Мне сейчас пришли на ум слова Лоис Бубар о том, что Кэтрин Коул «горожанка от макушки до пят» и что она явилась к ней, Лоис, с голыми ногами и в платье с кантом, и я подумала: «Кэтрин, вы это сделали, у вас получилось, вы пересекли невидимую черту!» В каком-то смысле она и правда ее пересекла. Взять хотя бы гольф. Путешествия на Кайманы. Почему одни знают, как это делается, а другие — вроде меня — до конца жизни носят с собой душок среды, в которой росли?
Хотела бы я знать. Но уже не узнаю.
Кэтрин с этим своим ароматом, она покупала только его.
К чему я все это: на моей культурной карте всегда будут белые пятна, которые ничем не заполнить, не мелкие участки, а целые материки, и это пугает.
Вильям за руку ввел меня во внешний мир. Насколько меня можно было туда ввести. Это все он. И Кэтрин.
* * *
Как же я скучала по Дэвиду! Перед смертью он двое суток ничего не говорил и даже почти не шевелился, а умер он, когда меня не было рядом, я вышла позвонить. Позже я узнала, что это не редкость — многие ждут, пока их близкие выйдут из комнаты.
Но медсестра сказала мне — она