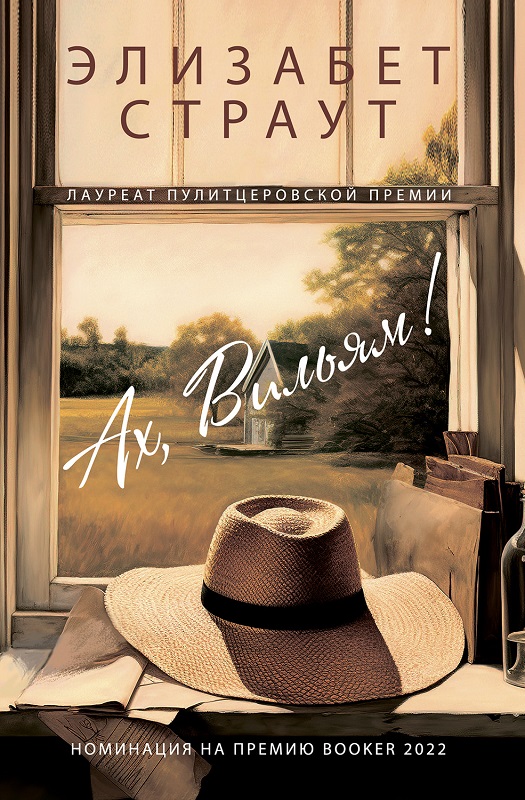сказала (о господи!), — что перед смертью Дэвид заговорил, глаза у него были закрыты, но он заговорил. Его последние слова были: «Я хочу домой».
* * *
А я-то думала, что у меня с Дэвидом не было настоящего дома, — но он был! Наша маленькая квартирка окнами на реку и город.
Я не жалела, что осталась в ней, пусть даже наедине со скорбью.
Мне вдруг вспомнилось, что Дэвид любил есть малину с хлопьями по утрам. Свежая малина: он ходил на ярмарку выходного дня — каждое лето, в июле — и покупал малину, и мы ее замораживали, и Дэвид потом весь год ел малину с хлопьями по утрам, и мне вдруг вспомнилось, как однажды — у него через четыре дня была назначена колоноскопия, и врач велел пять дней не есть ничего с мелкими косточками, — и вот однажды утром, когда мы сели за стол (это был один из любимых моих ритуалов — наши с мужем завтраки), Дэвид сказал: «Постой, я забыл малину», и я напомнила ему о предписании врача, и лицо у него вытянулось, как у расстроенного ребенка, — и, господи боже, все мы знаем, как велико бывает детское горе, — и он сказал: «Что, даже сегодня?»
И тогда я принесла малину — каждый вечер он доставал из морозилки небольшую порцию, чтобы к утру она разморозилась, — и сказала: «Ладно, сегодня еще можно», и он ел свои хлопья с малиной и был счастлив.
Странно, что такие вот воспоминания остаются с нами, когда умирает любимый человек: Дэвид ел малину и был счастлив. Но стоит мне подумать об этом, и у меня сжимается сердце.
Я расскажу вам еще одну вещь о Дэвиде, последнюю.
Три-четыре года подряд я ходила в филармонию с человеком, с которым тогда встречалась. И не раз обращала внимание на виолончелиста. Он всегда очень медленно шагал по сцене — как я узнала впоследствии, из-за детской травмы у него было искривление таза (я об этом уже писала), вдобавок он был невысок и тучноват, и, направляясь к своему месту или уходя со сцены после концерта, — порой я задерживалась, чтобы посмотреть, как он уходит, — он ступал очень медленно и заметно хромал, а еще он выглядел старше своих лет; голова седая, с проплешиной на макушке. И он чудесно играл на виолончели. Когда я впервые услышала в его исполнении до-диез-минорный этюд Шопена, в голове у меня промелькнуло: «Мне больше ничего не нужно». Это была даже не мысль. Я просто почувствовала, что мне ничего больше не нужно, только бы он играл.
Расставшись со своим кавалером, я еще дважды ходила в филармонию одна и после второго концерта загуглила виолончелиста, и, хоть это оказалось непросто, мне удалось узнать, как его зовут, Дэвид Абрамсон, но оставался вопрос, есть ли у него жена. Никаких сведений, кроме того, что он играет в филармонии, о нем не было. Вскоре я пошла в третий раз, и, когда концерт закончился и Дэвид направился за кулисы, я подумала: «Надо к нему подойти». И подкараулила его у служебного входа, стоял октябрь, и вечера были не очень холодные, и, когда он вышел, я шагнула ему навстречу и сказала: «Извините, мне страшно неловко вас беспокоить, но меня зовут Люси, и я вас люблю». Я поверить не могла, что сказала такое! «То есть я люблю вашу музыку», — добавила я. Бедняга стоял и слушал меня, мы с ним были почти одного роста, и наконец он сказал: «Большое спасибо» — и двинулся дальше. Тогда я сказала: «Нет, простите, я несу какой-то бред. Я давно люблю вашу музыку».
В приглушенном свете из открытой двери Дэвид взглянул на меня, я видела, что он на меня взглянул, и спросил: «Как, говорите, вас зовут?» Я повторила, и тогда он сказал: «Что ж, Люси, может, зайдем куда-нибудь выпить или перекусить? Куда бы вы хотели пойти?»
Это было похоже на провидение, говорил он потом.
Через полтора месяца мы поженились, и — впервые за долгие годы — я не боялась, что во втором браке начну вести себя странно, как это было, когда я вышла за Вильяма.
С Дэвидом Абрамсоном я не вела себя странно, с ним с того самого вечера, как мы познакомились, жизнь текла своим чередом.
* * *
Следующие пару недель я размышляла о Вильяме и о том, как мне всегда было с ним безопасно. Почему я считала, что мне с ним безопасно, в этом же нет никакой логики? Но в жизни редко бывает логика. И я спросила себя: «Что за человек этот Вильям?»
Мне вспомнилось, как в Мэне я сказала ему, что он женился на своей матери. Но за кого тогда вышла я? Точно не за своего отца…
За свою мать?
Ответа у меня нет.
А еще мне вспомнился толстяк из аэропорта и как я ощутила с ним родство; хоть я и чувствую себя невидимкой, мне все время кажется, что на мне клеймо, только поначалу его никто не замечает. И тогда я подумала: «Но ведь на Вильяме тоже клеймо».
И вспомнила, как Лоис Бубар слегка наклонилась вперед и спросила: «А с ним… как бы это сказать… с ним что-то не так?»
«Иди ты к черту, Лоис Бубар, — сказала я про себя. — Ну конечно, с Вильямом что-то не так!» И чуть не рассмеялась. Из-за того, что отреагировала на ее слова, как Вильям тогда.
* * *
А потом — как-то утром, в начале октября — я гуляла вдоль реки, а когда вернулась, в вестибюле меня ждал Вильям. Он сидел в кресле с книгой на коленях и, когда я вошла, медленно закрыл книгу и встал. «Привет, Люси», — сказал он. У него не было усов. И волосы стали короче. Просто удивительно, как сильно он изменился.
— Что ты здесь делаешь? — спросила я.
И он рассмеялся — почти настоящим смехом.
— Я пришел задать тебе один вопрос. — Он слегка поклонился, взглянул на швейцара, потом на меня и сказал: — Давай поднимемся к тебе.
Мы поднялись ко мне, и, робко переступив порог, Вильям сказал:
— Я и забыл, как тут все выглядит.
— А когда ты успел здесь побывать? — спросила я.
По какой-то причине я разнервничалась — без усов и с короткой стрижкой Вильям выглядел непривычно.
— Когда умер Дэвид и я помогал тебе с документами, — сказал он, оглядываясь по сторонам.
Боже, ну конечно, подумала я, а вслух сказала:
— Так что случилось? С чем связана смена образа? — И дотронулась пальцами до своей верхней губы.
Вильям пожал плечами:
— Захотелось чего-то новенького. Надоел мне Эйнштейн. — И взволнованно так добавил: — По-моему, я похож на… (Он назвал имя знаменитого актера.) Как тебе кажется?
В последний раз я видела Вильяма гладко выбритым много, много лет назад — мы тогда были юными, почти детьми. А теперь он уже не был юн.
— Ну, может. Немного. — Я не видела сходства между Вильямом и знаменитым актером.
Вильям снова окинул взглядом квартиру.
— А здесь мило, — сказал он. — Тесновато. И вещи разбросаны. Но мило. — И нерешительно присел на краешек дивана.
— Ты похож на свою мать, — сказала я. — Господи, Вильям, у тебя рот твоей матери!
И действительно, у нее были точно такие же тонкие губы. Но скулы у Вильяма выступали иначе, а еще у него как будто уменьшились глаза. Он похудел, догадалась я.
В окно с видом на реку лился утренний свет.
— Кстати, — сказал Вильям. — Ричард Бакстер родился не в той части Мэна, где мы с тобой были, а в Ширли-Фоллз.
Я не знала, что на это ответить, а потому ничего не ответила.
— Помнишь, ты ездила в Ширли-Фоллз? — продолжал Вильям. Я кивнула. — Так вот, я искал о нем информацию, и, оказывается, родился он именно там. Круто, а?
— Наверное.
И тогда Вильям прищурился и сказал:
— Люси, полетели со мной на Кайманы!
Я сказала:
— Что?
А он мне:
— Полетели со мной на Кайманы!
А я ему:
— Когда?
А он:
— В воскресенье.
— Ты шутишь? — сказала я.
— Если затянем, начнется сезон ураганов.
Я медленно опустилась в кресло у окна:
— Вильям, ты меня убиваешь.
Он пожал плечами и улыбнулся. Затем встал и сунул руки в карманы:
— Взгляни. — Он посмотрел на свои брюки, а после — по-детски так — на меня. — Не слишком короткие?
Это были брюки хаки,