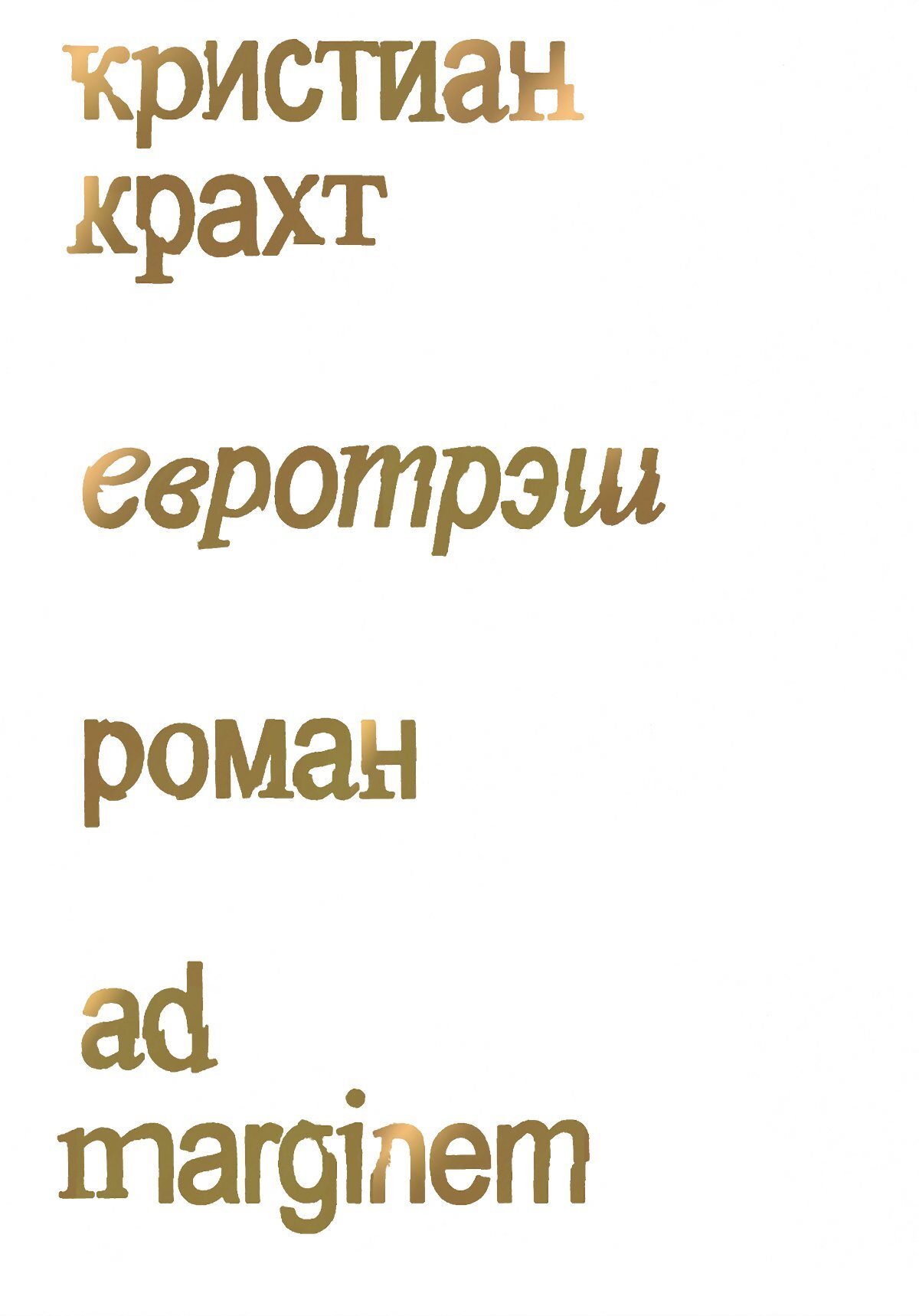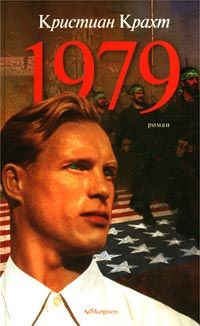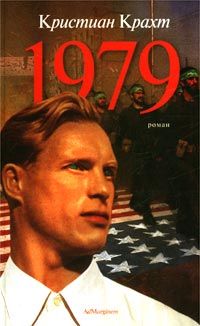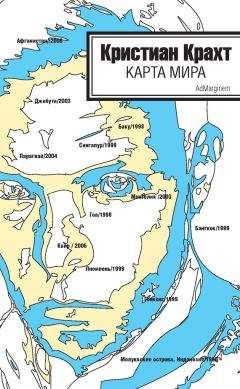пожалуйста, к Кладбищу Королей и подождите нас там немного, а потом поедем в аэропорт, поскольку нам нужно в Африку.
– Как скажете, месье.
– И после этого Вы наконец от нас отделаетесь.
– И разбогатею на пять тысяч франков.
– Но чаевых, любезный, Вы не получите ни сантима, – сказала мать.
Мы с матерью блуждали по кладбищу, которое вообще-то было уже закрыто. Дождь перестал. Было не то чтобы тепло, но не холодно. Издалека, со стороны озера, раздавались раскаты грома. Мать взяла с собой ролятор, и искали мы не очень усердно, без особой надежды. Водитель одолжил нам карманный фонарь, и пятно света гоняло наши тени туда-сюда между деревьями, освещая дорожки и темные, поросшие травой пространства между ними. Загадочно ухал филин, и мы хотели уже бросить поиски и вернуться к машине, как вдруг искомое надгробие возникло из темноты прямо рядом с нами с левой стороны. Неприметный камень был едва виден в зарослях самшита.
– Кристиан, смотри, вот же он, – прошептала мать и оперлась на надгробие. Ролятор остался стоять на гравиевой дорожке, одинокий черный проволочный скелет. Мать дышала тяжело и прерывисто. – Борхес, – сказала она.
– Да.
– А что там внизу написано, под именем?
– Погоди, я посвечу. Тебе видно? And ne forhtedon na. Что это за язык? Исландский?
– Древнеанглийский, – сказала мать.
Я закурил сигарету и закашлялся.
– И что это значит?
– «Не бойтесь», – ответила она.
Мы довольно долго простояли там, на кладбище, в темноте. Она взяла меня за руку. Я думал о ее смерти, и моей собственной, и как всё это будет. Она-то уже столько раз бывала почти там, в коме, в бардо [38], в клинической смерти, на искусственном питании. Может быть, это ничтожно малый, несущественный шаг, легкое дуновение, не более. Филин снова заухал. Сказать мне было совершенно нечего.
– А теперь мы вместе полетим в Африку, – сказала она.
– Окей. Пойдем, пора возвращаться к такси.
– Не будь таким занудой. Пора то, пора се…
– Хорошо, мама.
– Не забирай у меня руку. Мне так хорошо.
– Окей.
– Это из Беовульфа? Древнеанглийская надпись?
– Наверное, – буркнул я.
– А кстати, почему мы не навестили в Монтрё могилу Набокова? Мы могли устроить турне по могилам знаменитых писателей.
– А я и не знал, что ты интересуешься Набоковым.
– Гм, не то чтобы специально, – ответила она.
Мы снова забрались на заднее сиденье, и водитель завел мотор. Я всегда терпеть не мог Женеву, страшный, лживый, холодный протестантский город, населенный сплошь надутыми хвастливыми педантами. Мы всегда называли Женеву «Кальвинград». Цюрих и тот был мне в сто тысяч раз милее.
– Несмотря на это, я ужасно боюсь летать, – сказала она.
– Несмотря на что?
– Несмотря на ту чудную надпись на могиле Борхеса.
– Тогда прими золпидем. Погоди, сейчас найду.
– Нет, на дальних перелетах он не помогает. Я слишком нервничаю.
– А ты не можешь просто смотреть фильм или читать книгу?
– Смотреть фильм? Я? Дай мне лучше фенобарбитал.
– Ты уверена?
– Конечно. Я его прекрасно переношу. Ты же меня знаешь. Дай мне три таблетки.
Она запила таблетки большим глотком водки. Я бы ей не дал столько, если бы не видел вчера в коммуне, какая у нее развилась резистентность за все эти годы. Одна почка у нее еще была, слава богу. Так что три таблетки фенобарбитала ей, считай, нипочем.
Grenouille, ciseaux, crayon, – сказала она. – Наконец-то я вспоминаю. Это было в конце шестидесятых. Я помню Жерара, нашего садовника, который каждый день приезжал из Ниццы на мопеде. И совершенно несъедобный русский салат в La Voile d'Or. Грэм Грин подошел к нашему столику и представился. Помнишь? А еще я помню зоопарк в Кап-Ферра, рядом с бельгийским королем. Там был совершенно обворожительный тукан. А ты всегда очень боялся обезьянника, потому что из него ужасно воняло. Наш сосед Сомерсет Моэм как раз тогда умер. А еще я помню свой дайан-6, крошечный драндулет. И как я на нем попала в аварию, в полдень, не вписалась в поворот на бульваре генерала де Голля. Я, наверное, была чуть-чуть выпивши. Ты сидел сзади, тебя швырнуло ко мне на переднее сиденье, приехали машины скорой помощи, ты плакал и жаловался на боль в животе, и тогда тебя на вертолете повезли в Ниццу, в больницу, с подозрением на внутреннее кровотечение. Но я-то точно знала, что ничего с тобой не случилось, тебе просто хотелось побольше внимания. Бедный малыш. И я очень хорошо помню, как твой отец показывал мне виллу Roc Escarpé. Он на руках перенес меня через порог, улыбнулся мне, поцеловал и сказал, это теперь твой дом.
– Когда ты снова захочешь вспомнить свою жизнь, просто скажи вслух grenouille, ciseaux, crayon.
– Это правда так просто?
– Да.
– Я так рада, что мы едем в Африку, – ее рука бессильно упала на сиденье, тело обмякло, голос звучал глухо. – Ты этим всё искупил. Что мы сделаем в первую очередь? Я в таком возбуждении, как ребенок на Рождество. Сперва я хочу к зебрам.
– А куда именно в Африку ты хочешь?
– К кратеру Нгоронгоро. Нужно лететь в эту, как ее… Ты ведь знаешь, Кристиан, ты же там был.
– В Арушу.
– Да, точно, в Арушу. Я… Я закрою глаза ненадолго. Разбуди меня, как доберемся до самолета. Я так рада.
Мы еще покружили вокруг аэропорта, пока она окончательно не заснула, а потом я попросил шофера выезжать на трассу на север, в сторону Цюриха. Мы ехали сквозь ночь и в какой-то момент остановились заправиться. Я сидел рядом с крепко спящей матерью и смотрел в темноту леса и на ядовито-зеленый свет заправки. Подъезжали машины, люди заправлялись, покупали шоколадку, садились обратно в машину и уезжали. Показались тусклые звезды, казавшиеся маленькими белыми дырочками в балдахине неба.
Водитель вышел из минимаркета с двумя бумажными стаканами кофе, и мы молча выпили его в машине. Говорить было особо не о чем. Он отправился за вторым стаканом кофе. Я вылез из машины, отошел подальше от заправочных колонок и выкурил сигарету. Мы с водителем кивнули друг другу и снова сели в машину. И он снова вырулил в автомобильный поток, струившийся на северо-запад через всю Европу.
Мы приехали в Винтертур еще затемно. Город постепенно просыпался, показались первые велосипедисты, люди выходили с вокзала и спешили на работу. Сначала мы ехали по центру города, потом через уныло-буржуазную жилую застройку, и я спрашивал себя, что всё-таки хуже, брутализм или архитектура девяностых. Мы