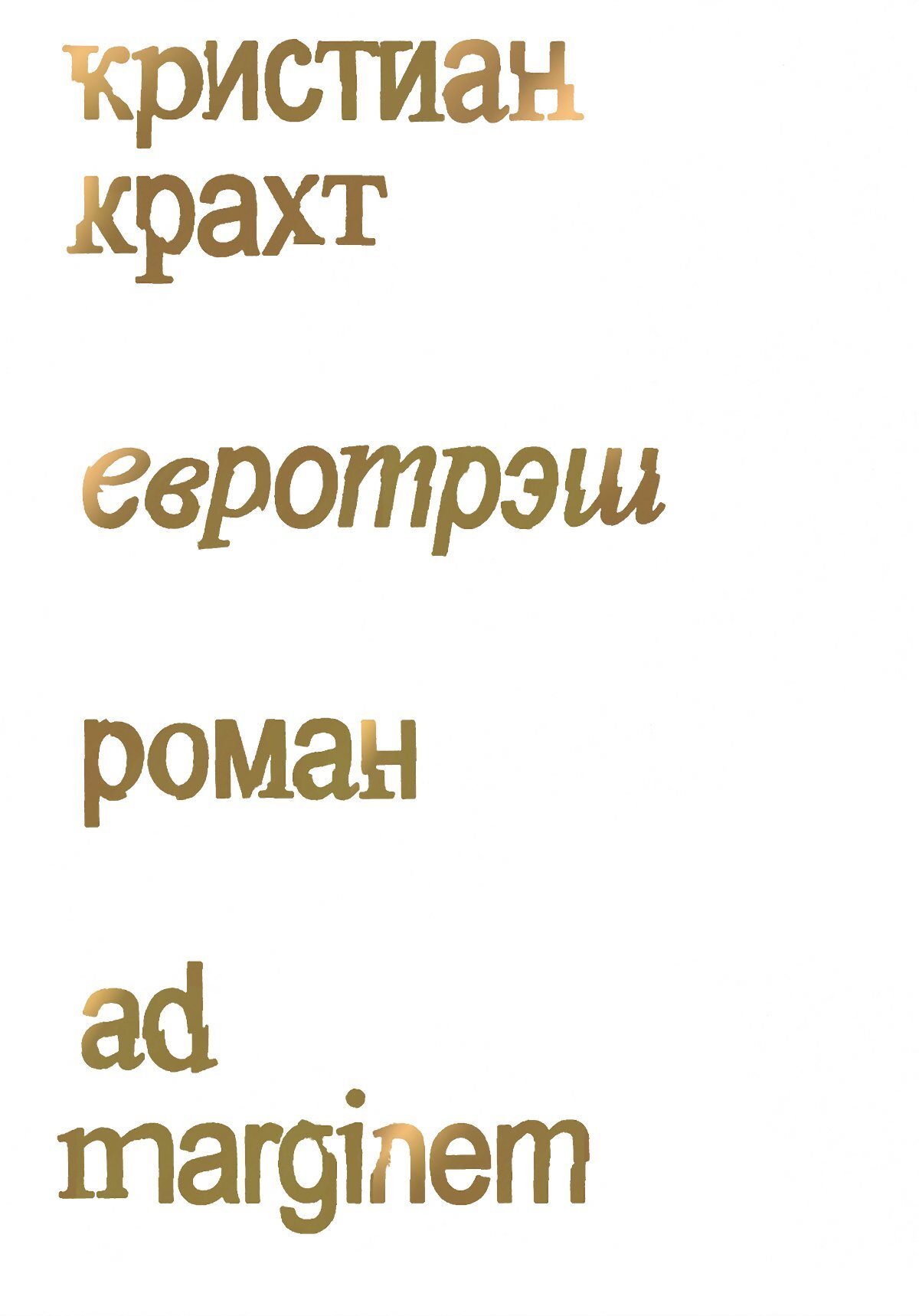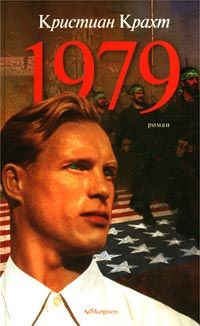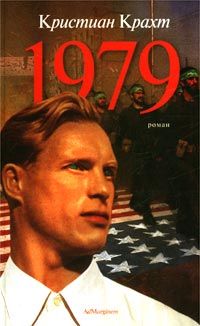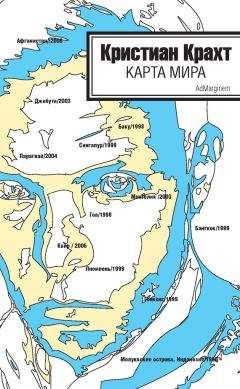которым он покупал благорасположение официантов и ночных портье. Может быть, шофер моего отца, португалец, всё еще живет здесь, может быть, новые владельцы взяли его на работу. Возможно, впрочем, что шофер был филиппинец, я не мог вспомнить, как его звали, да, наверное, это было уже всё равно. Никто не откликнулся на звонок, ворота не открылись, и я не стал звонить второй раз. Духа моего отца здесь не было, дом был пуст, пуст, пуст.
Когда я садился обратно в такси, мать сказала что-то, но я не расслышал. В машине стоял запах алкоголя и «Пепла роз», я ударился о него, как о стену.
– Что ты говоришь?
– Ты знаешь, что я так треснула твоего отца сковородкой, что у него лопнула барабанная перепонка?
– Нет.
– Ну и что ты на это скажешь?
– Он это заслужил?
– Еще как.
– И что же он такого сделал?
– Пфф. Я изо всех сил ударила его сзади сковородкой по уху, он отлетел к стене и там осел на пол, из уха потекла кровь и закапала ему халат. Он на всю жизнь остался глухим на это ухо.
– А ты ему когда-нибудь изменяла?
– Мы тогда еще не были женаты.
– Но ты уже с ним познакомилась.
– Мы с твоим отцом были помолвлены. Мне было двадцать четыре года, я жила в интернате «Вилла Пьерфё», расставляла по вазам розы, танцевала средь бела дня вальсы, и жизнь расстилалась передо мной, как бесконечное ласковое море. Это было чудесное время. Как-то на прогулке я познакомилась с одним писателем, он жил в Монтрё в гостинице со своей женой. На этот раз он был один и спросил, не хочу ли я выпить с ним чаю в кафе. Он надеется, что я не сочту такое приглашение неуместным, сказал он.
– Вот видишь. В Tea Room.
– Да отвяжись ты от меня со своими Tea Rooms!
– Извини. Продолжай, пожалуйста.
Такси опять аккуратно встроилось в неспешное швейцарское движение по шоссе. Дождь лил теперь как из ведра, становилось всё темнее, дворники на лобовом стекле едва успевали вычерчивать свои полукруги. Перед нами в направлении Женевы то и дело вспыхивал в лужах мокрыми огоньками оранжевый свет задних фонарей.
– Это было в шестьдесят втором году. Да, точно в шестьдесят втором. У писателя были льдисто-голубые глаза, как у твоего отца. Он был очень, очень обаятелен и умел вести беседу. Голова у него была как у птицы, нет, как у фокусника. На нем был темно-коричневый драповый костюм, как сейчас помню. И я потом долго целовалась с ним на какой-то улочке в старом городе, а когда он ушел, прокусила себе нижнюю губу. Я до сих пор чувствую вкус крови.
– Ты сочинила это всё прямо сейчас.
– Нет, это чистая правда.
– Не верю.
– Почему? У меня не могло быть любовной жизни, независимой от твоего отца?
– Нет. Не знаю. Я не могу себе этого представить. Я не хочу себе этого представлять.
– Потому что я стала старая и некрасивая и делаю в мешок.
– Давай сменим тему, пожалуйста.
– Почему? Ты же мне рассказываешь всякие истории, и я всегда внимательно слушаю. А тут я, понимаешь ли, задела твои чувства, потому что тебе вдруг предлагается увидеть во мне женщину, а не какую-то расплывчатую, эфирную фигуру матери – и ты просто обрываешь разговор.
– Мама, прошу тебя!
– Нет, даже не проси! Я не контейнер для твоего душевного мусора! И если ты псих и нуждаешься в экране, по которому можно в свое удовольствие размазывать твои гребаные идеи об эпигенетике, это еще не значит, что я не живой человек, со своими чувствами, желаниями, мечтами – и да, сексуальностью.
– В твои восемьдесят с гаком.
– Да, и в восемьдесят, и за восемьдесят. Или мне надо было в преддверии шестидесятилетия набить карманы камнями и прыгнуть в озеро? Как раз когда ты написал «Faserland»?
– Речь же совсем не об этом. Ты всегда передергиваешь. Мне как… как… мм… эстету всё-таки позволительно, наверное, не углубляться еще и в либидо собственной матери?
– Да хватит уже изображать из себя… У тебя просто не все дома. И, знаешь, поразительнее твоей чудовищной душевной глухоты только твое невежество. Прямо самой не верится, что это мой сын. Смотри, как бы на тебя снова не напала стеклянная болезнь.
– Вот как?
– Да, вот так.
– Я…
– Гляди-ка, тут наш герр Гюисманс просто онемел.
Нет, я не онемел. Я просто предпочел промолчать, как молчали в моей семье все и всегда, всё глотая, скрывая и утаивая, весь мертвый, слепой, жестокий век напролет.
– И что дальше?
– Дальше мы едем в Женеву, – сказала она.
– Простите, – сказал шофер.
– Да? – отозвалась мать.
– Я тут подумал…
– Слушаю Вас.
– Мне кажется, когда я вас обоих высажу, я смогу написать целую книгу.
Мы на заднем сиденье переглянулись. Только не это, тут мы были единодушны. Мать тут же окружила нас магическим полем, защитным щитом своей иксменовской психической энергии, чтобы никто не мог войти в этот круг и записать наши разговоры или еще как-то нарушить наши границы.
– Скучная получилась бы книга, – ответила она. – Кому это интересно? Рассказ, в котором вообще ничего не происходит, и только какая-то старуха время от времени ругается с сыном.
– Да мне просто в голову пришло… – сказал водитель. – Вообще-то я не умею ничего писать. Вот вы, наверное, пишете, герр…?
– Кельман.
– Что вы не герр Кельман, я уже знаю, – откликнулся шофер. – Ваша фамилия Крахт. Как и Вашей матушки. Я же вас слушаю без малого двенадцать часов подряд.
– За вычетом сладкого сна на парковке у канатной дороги, – мать еще дальше выдвинула свой щит, тот что с шипами и стальным моргенштерном. – Так что не преувеличивайте. И, пожалуйста, не лезьте в наши разговоры. Лучше следите за дорогой, а то там становится небезопасно, и в первую очередь для вас.
– Пять тысяч? – спросил шофер.
– Да, да, договорились, пять тысяч, – ответила мать, как раз когда мы проезжали под ярко освещенным указателем «Женева-Куантран».
– Знаешь, что мы сейчас сделаем? Прежде чем ехать в аэропорт?
– Очень интересно, – отозвалась мать.
– Но только с твоего согласия.
– Меня на многое можно подбить. Так что ты предлагаешь?
– Давай заедем на Кладбище Королей, выйдем там и поищем могилу Борхеса.
– Так ведь уже темно. Нам ни за что не найти эту могилу.
– Ну хоть попытаемся.
– Твоя книга «Faserland» вроде тоже как-то так кончалась?
– Да, но то была выдумка, а мы с тобой настоящие.
– Хорошо, едем.
– Тогда поезжайте,