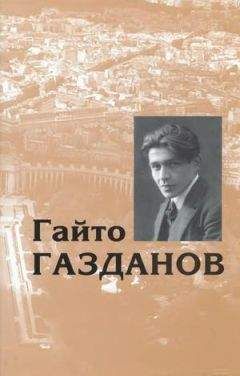Я думал тогда, что все мои мысли по поводу жизни, которую я наблюдал, и все мои суждения о ней объяснялись в очень значительной степени, именно шоферской работой, пребыванием с другой стороны событий, всегда наименее привлекательной. Но было невозможно предположить, что все это были только случайности, только отступления от каких-то правил. И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой: педерастия, сводничество, гадание, похороны, собирание окурков, труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами. Когда я однажды привез пассажиров в знаменитый публичный дом на улице Блондель — его адрес знали тысячи людей во всех концах мира, в Мельбурне и в Сан-Франциско, в Москве и в Риоде-Жанейро, в Токио и в Вашингтоне, — я увидел человека, который продавал, порнографические открытки и которого я, конечно, знал, как знал большинство ночных профессионалов Парижа.
— Идут дела? — спросил я. Он с возмущением ответил: — Нет, старик, нет, не могут они идти. Вчера арестовали, позавчера арестовали, третьего дня арестовали. Это же не работа!
Я никогда не останавливался на Монмартре; там у каждого кабачка были свои шоферы, нечто вроде небольшого клана; они не допускали никакой конкуренции. Кроме того, этот вид работы был особенно скучен и противен. Я вообще предпочитал отдаленные кварталы города, где не было длинных стоянок такси. Легче всего было работать в богатых и тихих районах Парижа, где было меньше автомобилей, чем в центре. По субботам там появлялась особая категория клиентов; это были почтенные и пожилые люди, сопровождавшие молодых и красивых женщин до автомобиля; это обычно происходило поздно, в третьем, четвертом часу утра. — Шофер, вы отвезете мадемуазель на бульвар Араго, Э 34. До свидания, моя дорогая. Значит, до среды, не так ли? — Да, я позвоню тебе в контору. — Прекрасно. Будь умницей, сии хорошо. — Спокойной ночи. — И как только автомобиль трогался, изменившийся женский голос говорил отрывисто:
— Пигаль.
Иногда это бывало Бланш или Монпарнас. Именно на Монпарнасе — после одного из таких путешествий — меня как-то остановили двое, мужчина и женщина, вышедшие из частного дома на rue Ste Beuve, — я хорошо знал этот дом. На женщине, прекрасно одетой и очень молодой, лица не было; достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она впервые была ночью в доме свиданий, со своим первым, вероятно, любовником. У нее дрожали руки, мигали глаза, она часто дышала. Попрощавшись со своим спутником, она дала мне адрес: ее квартира была на одной из набережных Сены. Приехав туда, она от волнения никак не могла достать из сумки своими прыгающими пальцами денег; наконец, она вытащила десять франков, но тут я, в свою очередь, не находил мелочи. — Скорее, скорее! — истерически сказала она. — Скорей, Боже мой, что это такое, поторопитесь же! — Я посмотрел на нее и ответил:
— Не нервничайте, мадам, слишком поздно. То, что непоправимо, все равно уже произошло.
— Мерзавец! — закричала она со слезами в голосе и убежала, не дожидаясь сдачи.
Ночью Париж был наводнен этими людьми, находящимися в состоянии сексуального ража. Нередко, в автомобиле, на ходу, они вели себя, как в номере гостиницы. Однажды я вез с какого-то бала молодую, высокую женщину в прекрасной меховой шубе; ее сопровождал человек, которому на вид было лет семьдесят. Он остановил меня перед одним из домов бульвара Осман, — и так как они не выходили и не разговаривали и так как, с другой стороны, я не предполагал, что этот кандидат на Пер-Лашез способен вести себя сколько-нибудь непристойно, то я обернулся, чтобы узнать, в чем же дело. Она лежала на сиденье, платье ее было поднято до пояса, и по блистательной, белой коже ее ляжки медленно двигалась вверх его красно-сизая старческая рука со вздутыми жилами и узловатыми от ревматизма пальцами.
Меня неоднократно поражало отношение шоферов к пассажирам из Aliter il и Пасси; питая к ним нечто вроде классовой неприязни, они бессознательно и молча признавали их воображаемое превосходство. У меня было с ними несколько разговоров на эту тему. Я стоял как-то, ожидая театрального разъезда, вместе с товарищами; мы знали, что будет много клиентов, это всегда легко определить по большему или меньшему количеству частных автомобилей, ожидающих своих владельцев. Шла "Arlesienne"[11], я сказал, что удивительно, как такая пьеса привлекает столько народу. Старый шофер, к которому я обратился, ответил мне:
— Слушай, старик. Это не такие люди, как мы. Ты этой пьесы не можешь понять, и я тоже. Для этого, старик, надо быть образованным. Там, может, есть такие слова, которых ты никогда не слышал. Для тебя это все ерунда. Они — другое дело, мы никогда не будем такими, как они. Тут нечего себе ломать голову.
Другой, грузный человек лет пятидесяти, с которым я несколько раз встречался на стоянках, сказал мне:
— Вот говорят: русские, русские. А я их жалею, понимаешь? Я тебе скажу, почему. Такие, как наш брат, работают с детства. Я, например, начал, когда мне было четырнадцать лет, и ты тоже, наверное. А русских я знаю. Ты их видишь и смотришь на них, как на всех остальных, и не понимаешь, насколько они несчастны. Они, брат, были адвокатами, докторами, офицерами, имели слуг и все, что полагается богатым людям, и вот теперь они ездят на такси, как ты или я. Это, брат, тяжело. Я думаю, что для этого надо иметь мужество. Я, брат, знаю, что говорю.
И он рассказал мне, что его жена до войны служила горничной у какого-то русского в Париже и что теперь он встретил этого же русского, который работает шофером. "Вот это, милый мой, катастрофа!"
И этому простому и великодушному человеку никогда не приходило в голову, что и он имел бы право жить не хуже, чем они, или, во всяком случае, стремиться к этому. Но ни он, ни его товарищи не задумывались над такими вопросами. Я нигде не имел возможности так близко видеть резкую социальную разницу между людьми и, главное, такого полного примирения со своей участью, я никак не мог к этому привыкнуть. Я чувствовал, что, проживи я здесь еще пятьдесят лет, это ничего не изменит. Я помню, какими дикими глазами смотрели на меня клиенты, когда я им отвечал нормальнейшим, по моим представлениям, образом; из-за своей манеры разговаривать с ними я несколько раз попадал в комиссариат, но, к счастью, все кончалось благополучно.
Эти недоразумения, — которых у меня было множество, — начались с того, что один мой пассажир, ехавший на вокзал с двумя огромными чемоданами, — он был доктор по профессии, как это потом выяснилось, — заявил, что счетчик показывает слишком много. Я ему ответил, что он ошибается и что к сумме, которую показывает счетчик, надо прибавить еще два франка, по одному с каждого чемодана. Он поднял скандал и стал кричать, что это воровство и что двух франков он уж во всяком случае ни при каких обстоятельствах не заплатит.
— Это воровство! — кричал доктор. — Вы не получите ни одного сантима из этих двух франков.
— Хорошо, — сказал я, — вы хотите, чтобы я вам их подарил? Я даю два франка первому нищему, когда он просит у меня милостыни. Тем более я не вижу, почему я отказал бы вам в такой сумме. Но для этого вы должны ее у меня попросить, как это делают нищие.
Он смотрел на меня изумленными глазами и, наконец, сказал, что тут недоразумение, что он доктор — именно тогда я это узнал — и что я ничего не понимаю.
— Вы доктор, — ответил я, — но у вас психология нищего, это парадоксально, но это бывает.
— Нет, нет, — сказал он растерянно, заплатил деньги и ушел, оборачиваясь. Один из полицейских, присутствовавший при этом разговоре — на тот случай, если бы дело приняло скандальный оборот, — посмотрел на меня и спросил:
— Скажите, пожалуйста, вы случайно не сумасшедший?
— Не думаю, — сказал я. — Во всяком случае меньше, чем мои клиенты.
Потом был случай еще с одним человеком, у которого было пять чемоданов и которого я привез на авеню Виктора Гюго рано утром. Он вышел из автомобиля и сказал мне так, точно это была естественнейшая вещь:
— Отнесите теперь эти чемоданы на пятый этаж.
Он даже не дал себе труда прибавить "пожалуйста" или "будьте добры", и в его голосе не было оттенка ни сомнения, ни просьбы.
— Послушайте, голубчик, — сказал я, — он повернулся как ужаленный. — Я надеюсь, что у вас руки не парализованы?
— Нет, почему?
— Я просто не вижу, почему бы я вдруг стал носить ваши чемоданы на пятый или вообще на какой бы то ни было этаж. Если бы мне нужно было переменить колесо, неужели вы думаете, что я обратился бы к вам и попросил бы вас сделать это вместо меня? Нет, не правда ли?
Он посмотрел на меня и потом спросил:
— Вы иностранец?
— Нет, — ответил я.