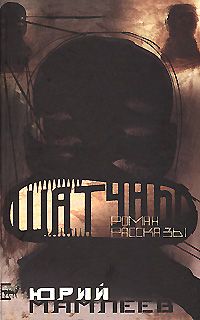Христофорова передернуло от отвращения. - Какой это восторг, какая тайна, какое объятие!.. Чувство исчезнования мира пред солнцем "я"!!... Ничего нет, кроме меня!.. Это надо ощутить во всей полноте, каждой клеточкой, каждой минутой существования; жить и дрожать этим... А "абсурд", чем абсурднее, тем истиннее...
ведь "я" над всем, и ему плевать... Тьфу - миру, все в "я"...
Падов затрясся от восторга; в пыли и тенях этой странной, огромной комнаты он пополз к Анне и Христофорову.
- Солипсизьм - слово-то какое, - утробно захихикал Падов. - Правда, Аннуля, в самом этом слове есть что-то склизкое, тайное, извивное... Даже сексуальное.
Анна захохотала.
- Представляю себе: два солипсиста в постельке, он и она, - Аннуля подмигнула Падову. - А недурственно: любовь между двумя солипсульками.
Падов завопил, протянув к ней руки: "Родная!" Он, так и причмокивая, просюсюкал это извивно-сексуальное слово: "Солипсулька!" В этот момент Христофоров вскочил с места. Больше он не мог терпеть. Картина целующихся солипсистов стояла в его глазах, как кошмар. Он даже забыл, что любил когда-то Анну, с него хватало и чисто трансцендентного ужаса. Оттолкнув какую-то табуретку, Христофоров двинулся к выходу.
- А как же папенька!! - провыл ему вслед Падов.
Но Христофоров уже хлопнул дверью. Его встретили дождь, ветер и прячущееся солнце.
Тем временем в комнате Падовского гнезда, накаленной от обнажившихся душ, продолжалась мистерия веры в "я".
Но старые, темные силы противостояния и ухода вдруг снова оживились в Падове.
- Господа! - произнес он. - Хорошо, вы стремитесь к бессмертному вечному Я, которое в вас самих. В человеке есть разные "я". Все дело в том, к какому "я" вы стремитесь!.. Есть своего рода Я на уровне Брахмана, Бога в самом себе, Абсолюта; есть Я на уровне богов; есть наконец, псевдо-я, эго, иллюзия Я, есть и другое... Допустим-допустим, я не спорю, вы найдете может быть, скажем в пределах индуизма правильный путь к высшему Я, путь к Богу, который внутри вас, и который неотличим даже от Брахмана, от Абсолюта; и это ваше высшее Я, этот Бог, и окажется вашим подлинным, реальным Я; пропадет ненавистное отчуждение Я от Бога, рухнет дуализм... Может быть, иное: вы придете к этом вечному в пределах глубевской религии Я, которая еще более радикальна, чем индуизм, и которая идет несколько другими путями... Может быть... Но вот что: если я захочу послать все в Бездну: и это я, и абсолютную реальность, и Нирвану, и Бога, и даже Бога, который во мне и который есть мое же высшее Я... Если я все это захочу отвергнуть! Что вы на это скажете!? Конечно это все прекрасно, и к тому же бессмертие, человеческая тоска и надежда... Но я слышу зов какой-то бездны...
К тому же я извечный негативист, отрицатель... Наконец, другой момент: а что если появление иного принципа? У окна захохотал Ремин.
- Но что же ты предлагаешь? - начал он. - Что?! ...Бездну?! ...Да от этого с ума можно сойти! ...Главное: ведь существует любовь, любовь к этому своему вечному Я! Ведь в любви к нему, в стремлении обладать им во всей его вечности - вот в чем дело! Значит, у тебя нет полной, окончательной любви к своему высшему Я, раз тебя тянут какие-то немыслимые бездны или просто скорее всего отрицание... Нет, нет, все должно быть направлено на то, что любишь, на свое бессмертное Я: и вера, и порыв, и метафизические знания, и вс°, вс°, вс°. И тогда, используя древние методы, знания, медитацию, мы воочию, практически обретем вечность и рухнут все завесы, и потустороннее перестанет быть потусторонним...
...Вдруг послышалось некое шевеление, писк и из-за какого-то рваного, ободранного стола вылез юный Сашенька. Губы его дрожали. Он плохо понял, конечно, главную нить этого разговора, ибо мысли его двигались только в одном направлении.
- А если не хватает терпения!.. - закричал он каким-то нечеловечьи визгливым голосом. - Если не хватает терпения!.. Я, например, уже больше не могу...
ожидать смерти и того, что там, за занавесом! У меня болят нервы... Надо порвать, порвать - наглядно, чтоб всем было доступно, а не только единицам этот занавес, чтобы воспринимаемый тогда потусторонний мир стал повседневностью, частью нас самих! - закричал он, весь трясясь.
- Чтоб рухнула преграда... Чтобы все слилось... И тогда и тогда,
- он внутренне как бы усладился, - все изменится... человечество освободится от всех своих земных кошмаров; голод, война, страх перед смертью потеряют свой смысл; рухнет тюрьма государства, ибо она бессильна перед духовным миром... все перевернется...
- Ишь, куда понесло, - улыбнулась Анна. - В социальщину... Ну, это по юности...
Ты еще организуй партию под названием "Загробная"... Программа и цель: порвать занавес... Со всеми последствиями... Сашенька, ведь до сих пор все старались наоборот уберечь человечество от знания потустороннего. Боюсь, что ваш прорыв приведет к замене земных кошмаров другими, более фундаментальными... Впрочем, все это имеет смысл.
Но никто не реагировал на все ее ворчание, все берегли и щадили "юных"; вместе с тем непомерный взрыв Сашеньки, сам его вид: еще мальчика с блуждающими глазами, точно устремленными в неведомое, спровоцировали у каждого виденье своего запредельного.
Воздух опять был напоен непознаваемым, истерически инспирированными призраками и хохотком, утробно-потусторонним, точно лающим в себя, хохотком Падова. Все это смешалось с потоками, судорогами любви к "я", с патологическим желанием самоутвердиться в вечности и с видением собственного "я" - в ореоле Абсолюта.
Самое время было не вместить... Но душа как-то выносила все это... Только Сашенька и Вадимушка вдруг чего-то не выдержали и попросились домой. Игорек вывел их за ворота.
- Личность должна взять на себя и бремя рода и бремя запредельного! провизжал он им на прощанье.
Лицо Вадимушки было даже чуть радостно.
Опускалась ночь. В гнезде Падова остались только хозяин, Анна и Ремин. Игорек тоже уехал.
XXI
Федор наблюдал за всем этим из щели. В гнезде Падова было так много соседних полу-комнат закутков, что не представляло труда стеречь рядом, в ожидании.
"Смыть, смыть надо их... недоступные", - бормотал Федор, когда вечером пробирался полутемной тропинкой к дому Падова, когда лез в окно, когда проходил сквозь дыры. Душа вела дальше, в запредельное; каждое дерево, качающееся от ветра, казалось платком, которым махали из потустороннего; каждый выступ, каждый предмет точно неподвижно подмигивали вымученно-нечеловеческими глазами. Федор вспоминал Анну, ее хохотки и улыбку; думал о метафизическом дерганьи Падова.
Оскалясь, вспоминал про себя стихи Ремина.
Описанный бурный разговор между обитателями и Христофоровым медленно входил в его душу. Надежно приютившись рядом, по соседству, он медлил, ожидая своего часа. В воображении плыл вспоротый живот Анны и ее крик: "Я.. я.. я.. В вечности, в вечности!" Поэтическую головку Ремина, застывшую в самолюбии, он представлял себе отрезанной и тщетно пытающейся язычком поцеловать самое себя.
"Футболом ее, футболом!" - неистово бормотал Федор, вцепившись в косяк двери. Он словно видел себя на полянке, пред Падовским гнездом, в одной майке, без трусов, потно гоняющим мертвую голову Ремина в качестве футбольного мяча. "Футболом ее, футболом, - причитал он. - И забить, забить навсегда в ворота".
О Падове была особая речь; Федор хотел просто его задушить, глядя в глаза, своими руками; чтобы вместе с хрипом из красного рта выдавливалась и душа, кошмарная, наполненная непостижимым ужасом, задающая себе патологически-неразрешимые вопросы. Он представлял себя накрытым этой душой, как черным покрывалом, и выбегающим из этого дома, как бык, в слепоте, вперед, вперед, в неизвестность!
Все это не в словах, а в каких-то невыразимых мыслях-состояниях, понимая все по-своему, переживал Федор. Как огромный идол, переминался с ноги на ногу, чуть не подпрыгивая, вслушиваясь в хрип и бормотанье там, за стеной.
Но постепенно некий томный и потусторонний елей обволакивал его душу. Ему стало казаться, что он частично уже нашел то, что искал: в самой душе "метафизических", в их существовании. Смрадно щерился каждому, направленному на "главное", слову Падовских. От этого общения он получал почти такое же ощущение как от убийства.
Это неожиданно немного снизило его желание убивать; однако ж, с другой стороны, это желание еще более вздернулось и укрепилось, именно чтоб разрешить парадокс и реализовать себя во чтобы то ни стало.
Федор настороженно прислушался к этому вдруг нахлынувшему противоречию; чуть дрогнул, испугавшись неосуществления; но потом почувствовал, что мертвая радость от бытия Падовских все равно ведет только к стремлению получить идентичную, но еще более болезненно-высшую радость от их убийства. (Одно напряжение снимается другим, еще более катастрофичным).
Но все-таки он не мог избавиться от искушения продолжать ощущать их живыми. Ибо, о чем бы они ни говорили, он, особенно почему-то сейчас, перед их приближающейся смертью, продолжал ощущать их как нечто потустороннее, присутствующее среди живого здесь; а потустороннее нечего было превращать в потустороннее, то есть убивать; оно и так частично было тем, чем Федор хотел бы видеть весь мир.