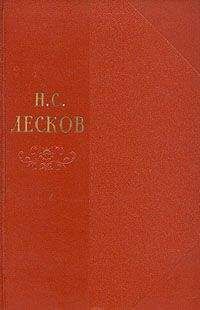— Иоанну Воинственнику? Иоанну Воинственнику, говоришь ты, молебен-то ходил служить? — перебил дьякон.
— Да-с, Иоанну Воинственнику.
— Ну так, брат, поздравляю тебя, совсем не тому святому служил.
— Дьякон! да сделай ты милость, сядь, — решил отец Савелий, — а ты, Николай, продолжай.
— Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся уж почти моя сказка и рассказана. Едем мы один раз с Марфой Андревной от Иверской божией матери, а генеральша Вихиорова и хлоп на самой Петровке нам навстречу в коляске, и Метта Ивановна с ними. Тут Марфа Андревна все поняли и… поверите ли, государи мои, или нет, тихо, но горько в карете заплакали.
Карлик замолчал.
— Ну, Никола, — подогнал его протопоп Савелий.
— Ну-с, а тут уж что же: как приехали мы домой, они и говорят Алексею Никитичу: «А ты, сынок, говорят, выходишь дурак, что смел свою мать обманывать, да еще квартального приводил», — и с этим велели укладываться и уехали.
Глава пятая
Николай Афанасьевич обернулся на стульце ко всем слушателям и добавил:
— Я ведь вам докладывал, что история самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица, — добавил он, вставая, — засим и поедемте!
Марья Афанасьевна стала собираться; но дьякон опять выступил со спором, что Николай Афанасьевич не тому святому молебен служил.
— Это, сударь мой, отец дьякон, не мое дело знать, — оправдывался, отыскивая свой пуховый картуз, Николай Афанасьевич.
— Нет, как же не твое! Непременно твое: ты должен знать, кому молишься.
— Позвольте-с, позвольте, я в первый раз как пришел по этому делу в церковь, подал записочку о бежавшей рабе и полтинник, священник и стали служить Иоанну Воинственнику, так оно после и шло.
— Ой! если так, значит плох священник…
— Чем? чем? чем? Чем так священник плох? — вмешался неожиданно отец Бенефактов.
— Тем, отец Захария, плох, что дела своего не знает, — отвечал Бенефактову с отменною развязностию Ахилла. — О бежавшем рабе нешто Иоанну Воинственнику петь подобает?
— Да, да; а кому же, по-твоему? кому же? кому же?
— Кому? Забыли, что ли, вы? У ктиторова места лист в прежнее время был наклеен. Теперь его сняли, а я все помню, кому в нем за что молебен петь положено.
— Да.
— Ну и только! Федору Тирону, если вам угодно слышать, вот кому.
— Ложно осуждаешь: Иоанну Воинственнику они правильно служили.
— Не конфузьте себя, отец Захария.
— Я тебе говорю, служили правильно.
— А я вам говорю, понапрасну себя не конфузьте.
— Да что ты тут со мной споришь!
— Нет, это что вы со мной спорите! Я вас ведь, если захочу, сейчас могу оконфузить.
— Ну, оконфузь.
— Ей-богу, душечка, оконфужу!
— Ну, оконфузь, оконфузь!
— Ей-богу ведь оконфужу, не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю.
— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь, — смеясь и радуясь, частил Захария Бенефактов, глядя то на дьякона, то на чинно хранящего молчание отца Туберозова.
— Оконфузить? извольте, — решил Ахилла и, сейчас же закинув далеко на локоть широкий рукав рясы, загнул правою рукой большой палец левой руки, как будто собирался его отломить, и начал: — Вот первое: об исцелении от отрясовичной болезни — преподобному Марою.
— Преподобному Марою, — повторил за ним, соглашаясь, отец Бенефактов.
— От огрызной болезни — великомученику Артемию, — вычитывал Ахилла, заломив тем же способом второй палец.
— Артемию, — повторил Бенефактов.
— О разрешении неплодства — Роману Чудотворцу; сели возненавидит муж жену свою — мученикам Гурию, Самону и Авиву; об отогнании бесов — преподобному Нифонту; об избавлении от блудныя страсти — преподобной Фомаиде…
— И преподобному Моисею Угрину, — тихо подставил до сих пор только в такт покачивавший своею головкой Бенефактов.
Дьякон, уже загнувший все пять пальцев левой руки, секунду подумал, глядя в глаза отцу Захарии, и затем, разжав левую руку, с тем чтобы загибать ею правую, произнес:
— Да, тоже можно и Моисею Угрину.
— Ну, теперь продолжай.
— От винного запойства — мученику Вонифатию…
— И Моисею Мурину.
— Что-с?
— Вонифатию и Моисею Мурину, — повторил отец Захария.
— Точно, — повторил дьякон.
— Продолжай.
— О сохранении от злого очарования — священномученику Киприяну…
— И святой Устинии.
— Да позвольте же, наконец, отец Захария, с этими подсказами!
— Да нечего позволять! Русским словом ясно напечатано: и святой Устинии.
— Ну, хорошо! ну, и святой Устинии, а об обретении украденных вещей и бежавших рабов (дьякон начал с этого места подчеркивать свои слова) — Феодору Тирону, его же память празднуем семнадцатого февраля.
Но только что Ахилла протрубил свое последнее слово, как Захария тою же тихою и бесстрастною речью продолжал чтение таблички словами:
— И Иоанну Воинственннку, его же память празднуем десятого июля.
Ахилла похлопал глазами и проговорил:
— Точно; теперь вспомнил, есть и Иоанну Воинственнику.
— Так о чем же это вы, сударь отец дьякон, изволили целый час спорить? — спросил, протягивая на прощанье свою ручку Ахилле, Николай Афанасьевич.
— Ну вот поди же ты со мною! Дубликаты позабыл; вот из-за чего и спорил, — отвечал дьякон.
— Это, сударь, называется: шапка на голове, а я шапку ищу. Мое глубочайшее почтение, отец дьякон.
— «Шапку ищу»… Ах ты, маленький! — произнес, осклабляясь, Ахилла и, подхватив Николая Афанасьевича с полу, посадил его себе на ладонь и воскликнул: — как пушиночка легенький!
— Перестань, — велел отец Туберозов.
Дьякон опустил карлика и, поставив его на землю, шутливо заметил, что, по легкости Николая Афанасьевича, его никак бы нельзя на вес продавать; но протопопу уже немножко, досадила суетливость Ахиллы, и он ему отвечал:
— А ты знаешь ли, кого ценят по весу?
— А кого-с?
— Повесу.
— Покорно вас благодарю-с.
— Не взыщи, пожалуйста.
Дьякон смутился и, обведя носовым бумажным платком по ворсу своей шляпы, проговорил:
— А вы уж нигде не можете обойтись без политики, — и с этим, слегка надувшись, вышел за двери.
Вскоре раскланялись и разошлись в разные стороны и все другие гости.
Николая Афанасьевича с сестрой быстро унесли окованные бронзой троечные дрожки, а Туберозов тихо шел за реку вдвоем с тем самым Дарьяновым, с которым мы его видели в домике просвирни Препотенской.
Перейдя вместе мост, они на минуту остановились, и протопоп, как бы что-то вспомнив, сказал:
— Не удивительно ли, что эта старая сказка, которую рассказал сейчас карлик и которую я так много раз уже слышал, ничтожная сказочка про эти вязальные старухины спицы, не только меня освежила, но и успокоила от того раздражения, в которое меня ввергла намеднишняя новая действительность? Не явный ли знак в этом тот, что я уже остарел и назад меня клонит? Но нет, и не то; таков был я сыздетства, и вот в эту самую минуту мне вспомнился вот какой случай: приехал я раз уже студентом в село, где жил мои детские годы, и застал там, что деревянную церковку сносят и выводят стройный каменный храм… и я разрыдался!
— О чем же?
— Представьте: стало мне жаль деревянной церковки. Чуден и светел новый храм возведут на Руси, и будет в нем и светло и тепло молящимся внукам, но больно глядеть, как старые бревна без жалости рубят!
— Да что и хранить-то из тех времен, когда только в спички стучали да карликов для своей потехи женили.
— Да; вот заметьте себе, много, много в этом скудости, а мне от этого пахнуло русским духом. Я вспомнил эту старуху, и стало таково и бодро и приятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость! Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно; но для меня с них каплет сладких сказаний источник!.. О, как бы я желал умереть в мире с моею старою сказкой.
— Да это, конечно, так и будет.
— Представьте, а я опасаюсь, что нет.
— Напрасно. Кто же вам может помешать?
— Как можно знать, как можно знать, кто это будет? Но, однако, позвольте, что же это я вижу? — заключил протоиерей, вглядываясь в показавшееся на горе облако пыли.
Это облако сопровождало дорожный троечный тарантас, а в этом тарантасе сидели два человека: один — высокий, мясистый, черный, с огненными глазами и несоразмерной величины верхнею губой; другой — сюбтильный, выбритый, с лицом совершенно бесстрастным и светлыми водянистыми глазками.
Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту и, переехав реку, повернул берегом влево.
— Какие неприятные лица! — сказал, отвернувшись, протопоп.