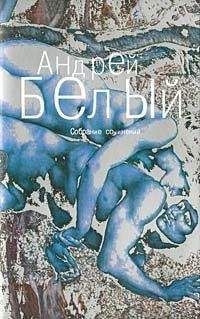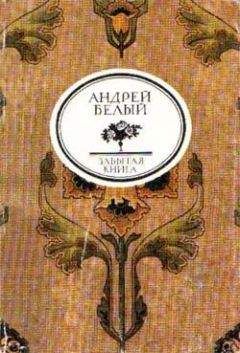И уже будет невесть тебе что казаться: будто и кровь-то ее — окиан-море-синее; и белое-то лицо ее — иссиня-белое оттого, что оно иссиня-сквозное: в жилах ее и не синее море, а синее небо, где сердце, — красная, что красное солнце, лампада; и ее тебе уста померещатся пурпуровыми: пурпуровыми теми устами тебя она оторвет от невесты; и будет усмешка ее — милой улыбкой, милой… и грустной; и вся тебе она станет по отчизне сестрицею родненькой, еще не вовсе забытой в жизни снах, — тою она тебе станет отчизной, которая грустно грезится по осени нам — в дни, когда оранжевые листы крутятся в сини прощальной холодного октября; и будут красные волоса столярихи для тебя в ветре закрученным листом — в небо, и блеск, и осенний трепет; но тут ты увидишь, что эти все осветляющие глаза — косые глаза; один глядит мимо тебя, другой, — на тебя; и ты вспомнишь, как коварна, обманна осень.
А закати глаза столяриха: два на тебя уставятся зрячих бельма Матрены Семеновны; тут поймешь, она-то тебе чужда и, как ведьма, пре-безобразна; а опусти долу она глаза и упрись ими в грязь, солому и стружки, да заскорузлые свои руки сложи она на животе, — побежит по лицу тень, очернятся складки у носа, явственней в рябины кожа ее углубится, — а рябин-то многое множество, — мятым и потным станет лицо, и опять-таки выпятится живот, а в углах губ такая задрожит складочка, что одна срамота: будет тебе она вся — гуляющей бабой.
* * *
Матрена у себя на дворе: загоняет корову; уже ее поскрипывает ведро; уже она под коровой, в жестяное дно побрызгивает теплая струя душного молока.
Вот в темноте шаги, голоса: — «Матрена, а, Матрена?» — «Чаво?» — «Милая, обласкай!»… — «Ох, ты, цаловаться абнакнавеиия не имею»… — «Ты одна?» — «Не замай»… — «Пойдем к тебе!» — «Ох, чтой-то!»… — «Ну?» — «Сам нынче, небось, вернется»…
Оханье, аханье: торопливые по двору шаги и возня; раскудахтались куры, хохлушка, хлопая крыльями, взлетает на сеновал, и на чью-то оттуда голову щелкнул сухой, голубиный помёт. И уже они в горнице: только зеленая там лампадка озаряет светлый лик Спасов, благословляющий хлебы; в их волосах стружки, древесные опилки, щепки; все предметы, что ни есть какие, молчаливо уставились в этот миг на Петра; белое в зеленоватом свете с провалившимися глазами и с блистающими из-под осклабленного рта зубами Матрены Семеновны потное лицо: белое в зеленоватом свете, точно зеленый труп, перед ним сидящей ведьмы лицо; сама к нему лезет, облапила, толстые груди к нему прижимает, — осклабленная звериха; где-то в неизмеримой теперь дали уплывает в зеленом море вершин от него старый дом с — там, там — ему прощально машущей ручкой принцессы Кати.
Что же это, Господи, Боже мой?
И он разрыдался перед вот этой зверихой, как большой, покинутый всеми ребенок, и его голова упадает на колени; а в ней — перемена; уже не звериха она; эти большие, родные глаза: уплывают полные слез глаза в его душу; и не измятое пробушевавшим порывом, а какое-то благоуханное перед ним наклоняется лицо.
— Ох, болезный! Ох, братик: вот же тебе от меня хрестик…
Она отстегивает ворот рубашки и с горячего своего тела вешает на шею ему жестяной, дешевенький крест.
— Ох, болезный! Ох, братик: сестрицу свою прими всю как есть…
Уже ночь присела в кусты, и уже мой герой отходил от избы столяра, и на него лаял пес, и след его во тьме уже затеривался, и, обернувшись, он видел, что какая-то там рука поднимала с порога мерцающий светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный света поток, а из-за света, из-под с белыми яблоками платка вытянулось лицо Матрены Семеновны, светясь в темь сладострастной улыбкой и от блеску слепнущими глазами; такою маленькой там являлась она; уже затеривался его след, а все еще стояла Матрена, а все еще вдогонку за ним протягивался светоч, к затеривающимся его следам; долго еще багровое око в том месте моргало; и вот уже это зрячее место ослепло; вскоре от этого места на все Целебеево прогорланил петух; и слышное едва пенье отозвалось будто бы из… впрочем, Бог весть, откуда.
Все еще стояли они и миловались, и неизреченная вставала меж ними близость, как у порога в сенях раздались шаги, и едва успели они отскочить друг от друга, как на пороге стоял из Лихова возвратившийся сам хозяин, Митрий Миронович Кудеяров, столяр.
— О-о-о-о! — стал заикаться он и вошел.
Босые ноги Матрены Семеновны оттопотали куда-то вбок; там она укрывала фартуком грязным до невозможности густо горящее лицо, и оттуда поглядывала она выжидательно на обоих: будто даже какое любопытное лукавство на лице отразилось ее, и легкая робость; ну, чего ей было бояться? Сама же она миловалась с сожителева с допущенья и даже более того, — с приказанья; но прошел внутри ее страх, на зубы зубы не попадали: не оттого ли, что тайное столяра приказанье исполняла она не так: приказанье-то обернулось в ней в сладкий и вольный души порыв; еще маленькая секундочка, и все в ней — захолонуло, когда мертвая, тощая половина лица столяра мертво уставилась на икону, а мертвая, тощая, как рыбья костяшка, рука для крестного приподнялась знаменья; чуяло ее сердце, что она совершила перед сожителем грех; от поцелуев, объятий, ласк растрепанное лицо дрожащими Матрена Семеновна оправляла руками и, незаметно там, в темноте свою застегнула кофту.
Но должно быть, так-таки ничего не приметил столяр; ласково глянул он на Дарьяльского: а еще верней, что на Дарьяльского глянул супротив лица поставленный нос; только длинная, желтая борода укоризной протягивалась к полу:
— О-о-о-о-… очень… (он уже перестал заикаться), очень… очень можно что даже сказать, вот тоже, приятно видеть мыслящего человека в нашей берлоге-с… Очень…
И широкую протянул Дарьяльскому, мозолистую ладонь.
Но столяр видел все, и сам как бы даже перепугался; что бы оно выходило, значит, такое, и что бы оно теперь, значит, следовало. «Нет, не могу, не могу!» — думал он и вздыхал, а что бы это такое он не мог, видно, еще и не обмозговал сам; только было ему душно в спертой избе от запаха черного хлеба.
С сурово сдвинутыми бровями и с низко опущенной головой исподлобья Дарьяльский вперил в столяра крепкий, дико-блистающий взор, готовый дать столяру и ответ, и отпор; ни следа бы недавних волнений тут не прочесть; все во мгновение ока герой мой измерил, чтобы встретить достойно то, что между ними могло произойти; но ласковость столяра, а еще более его мозолистая рука из Петра вынули силу.
— Я вот… мне бы, вот… собственно, я за заказом: мне бы вот стул, деревянный, знаете ли, с резным петушком, — говорил он первые попавшиеся слова.
— Можна… можна… — тряхнул столяр волосами, — можна, — и какое-то было в этом потряхиваньи волос снисхожденье, может быть, поощренье, а всего более — злое, едва приметное издевательство: так бы столяр вот эту паскудницу-бабу за волосы да о пол, ей бы подол завернул да запинял бы ногами; а баба-паскудница из угла дозирала за столяром; глаза же ее говорили: «Не ты ли, не ты ли, Митрий Мироныч, сам миня насчет таво вразумлял, да силу свою в мою вкладал в грудь?»
Вразумлять-то столяр — вразумлял; это — точно; да как-то оно выходило будто не так: без молитв, смысла и чину; а коли без чину без богослужебного — по обоюдной, значит, одной срамоте; сам же он — хвор: отощал от поста да от кашля: женским ли ему теперь естеством заниматься — тьфу: всем эдаким занимался, бывало, столяр; а вот Матрене-то рожать — след; знал и то, какие такие произойдут отсюда причины, и какие такие дела от причин воспоследуют: воспоследует духа рожденье, восхолубленье земли да аслабажденье хрестьянского люда; и выходит оно — того: след Матрене связаться с барином; а оно-то, вишь, — не того, коли ревностью сердце исходит… «Как, иетта, они да без миня!» — думает он, и с омерзением сплевывает, и почесывается, не глядя на моего героя.
— Так ефта про стул — вот тоже: можна… и деревянный стульчик — вот тоже с резьбой, все эфта можна… И чтобы на спинке петушок, али голубок, и иетта, вот тоже, можна… Иетта не значит, значит, ничаво, то ись: штиль всякий быват…
При слове «голубок» Дарьяльский вздрагивает, будто грубо коснулись его души тайн; и уже схватывается за шапку:
— Я, собственно, без вас, тут у вас посидел… Да мне и пора бы идти.
— Што ж, иетта, вы, можно сказать, абижае-те нас: я, значит, вижу, наш человек, — подмигивает Кудеяров, — што ж: я в избу, а вы — вон; нешта возможно!..
И явственно на столе Кудеяров перед Петром трижды начертывает крест; и опрокидывается все в голове Петра; уже ему от столяра невозможно уйти; и чуть-чуть не срывается с уст его: «В виде голубине».
Но столяр суетится уже вокруг:
— Вот тоже: милости просим нашего хлеба-соли откушать… Вздуй-ка, Матрена Семеновна, самоварчик… Да што ж, иетта, ты, дуреха, — спохватывается столяр: — гостя не просишь впаратные наши хоромы?