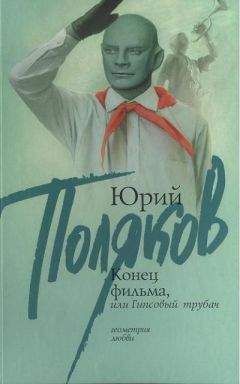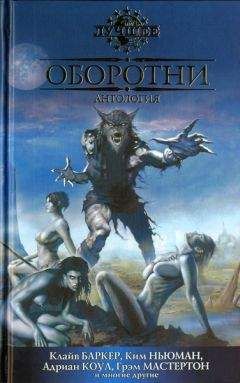Я бросил пить, я прошлым летом на все, как есть, махнул рукой, а он -- опять за мною следом, солдатик, стриженый такой. Мы тезки с ним и одногодки. Веселый, в цыпках на ветру, он тащится за мной в пилотке, все тащится за мной в пилотке, и в дождь и в снег -- за мной в пилотке, покуда весь я не умру...
А потом он прочитал ему еще одно стихотворение, и еще одно. А еще он прочитал товарищу Кикимонову свою "Омшару"... Никогда, никогда в жизни у Тюхина не было такого благодарного слушателя! Затаив дыхание, товарищ подполковник внимал Витюшиным ламентациям и поощренный вниманием старшего по званию рядовой Мы все читал, читал!.. И словно убаюканные музыкой его стихов, улеглись волны, стих ветер, дивным серебряным светом озарилась тополиная листва, серебряная дорожка пала на присмиревшие воды. И поначалу впавший в транс Витюша не замечал этих волшебных перемен, но вот вдруг забыл строчку, что случалось с ним крайне редко, а коли уж быть совсем точным, не случалось никогда, даже если он запивал по-черному, а тут вот -- забыл, словно запнулся, как смертельно раненый, на бегу, и растерянно замер, посмотрел на онемевшего от восторга слушателя, как будто он мог подсказать ему забытое, но товарищ Кикимонов не шелохнулся и тогда Витюша, закатив глаза под лоб, запрокинул голову, мучительно вспоминая, и вдруг из уст его, вместо проклятой концовки, судя по всему -- раз уж она забылась -неудачной, вырвалось это вечное, всем на свете поэтам присущее: "Ах!" На очистившемся от облаков, полном звезд, небе сияла огромная... тут Витюша чуть не обмолвился -- Луна, но в том-то и дело, что была это никакая не Луна, а такая... такая несусветная , как все, почти все в этом клиническом повествовании, такая знакомая по съемкам из космоса, голубая такая, синяя и белооблачная, лесная, желтопустынная, в снежных чепчиках полюсов, его родная планета. -- Земля! Земля! -- вскричал Витюша, как впередсмотрящий с мачты. -- Товарищ подполковник, Земля, елки зеленые!.. Она была большая -- в полнеба -- и, как нарочно, тем самым боком, той освещенной стороной, где простиралась их, с товарищем Кикимоновым, такая, даже с подлунной высоты необозримая, Родина, вся разом -- от Балтики до Камчатки, от Тютюнорских степей до вечных арктических льдов. Сначала Витюша видел только крупные объекты: Волгу, Крым, Кольский полуостров, Ладогу, прожилку Невы, но вот глаза его увлажнились и сквозь волшебные увеличительные линзы слез стали видны подробности: маленькая речушка под Рязанью, где он ловил раков с сестрой Есенина, поле под Тамбовом, по которому деловито ползал дедулинский трактор, хохляцкую, беленную известью хату на берегу Южного Буга, на окраине города Хмельницкого и на скамейке у крылечка постаревшего, седоусого Василь Васильича с козьей ножкой в руке. И негромко, чтоб ненароком не потревожить всех, заснувших вечным сном среди белого дня, Витюша окликнул: -- Вася!.. Василь Васильич!.. Эй, сержант Кочерга, это я рядовой Мы! Как слышишь меня? Прием. И вдруг Витюша увидел, как Васька, хохол чертов, поднял голову и, из принципа по-украински, отозвался: -- Эх, чую тоби, Тюха, чую!.. Не дуже гарно, москаль ты бисов, но чую... А в ауле под Ферганой рядовой Мы разглядел и окликнул младшего сержанта Бесмилляева, и милый бесу узбек, хоть и по-узбекски, но тоже исправно отозвался. "Значит, все-таки дошли, не заплутали!" -- обрадовался Витюша. И так, видя все земные стороны сразу, он окликал всех поочередно и поименно, как на утренней, а точнее -- на вечерней поверке. И все, как из строя, четко, безукоснительно отвечали ему. Все, кого он любил и помнил. Все-все -- и живые, и мертвые. И тогда всем, кто слышал его, старший радиотелеграфист рядовой Мы, волнуясь, передал кодовую фразу, словесный сигнал, такой тревожный, такой до скончания времен памятный его поколению: "Над всей Россиею безоблачное небо". Впрочем, вполне возможно, это была всего лишь очередная строчка из еще не написанного очередного Витюшиного стихотворения. Всего лишь строчка, дай-то, Господи... "Над всем моим Отечеством всесветлым, родным, смурным, пропащим, предрассветным, безумным, дивным, страшным, предзакатным, безудержным, безмерным, безвозвратным, над всей страной, которую Господь придумал, чтоб в мученьях дух и плоть на этой вечной паперти Земли спасение в юродстве обрели..." А когда Земля, вместе с серебряной дорожкой, ведущей к ней, погасла, Тюхин, помолчав, сказал товарищу Кикимонову: -- Знаете, подполковник, о чем я подумал? Хорошо, как известно, только там, где нас нет. Склонен допустить, что еще лучше там, где нас, иродов, покуда еще не было. Но, Бог ты мой, как все же прекрасно там, где нам с вами выпало мыкаться, где мы падали на четвереньки, росли, любили, верили, надеялись, маялись дурью, в едином порыве вставали с мест, по зову совести вступали и, опять же по зову, без всякого зазрения выходили прочь, проклинали и, каясь, опять воспевали нами же проклятое, смеялись, плакали, сочиняли никому не нужные стихи, совали в петлю свои никуда, казалось бы, непригодные головушки... О кто бы знал, кто бы знал, как там было хорошо, Кикимонов!.. Подполковник, задумчиво поскрипывая, промолчал. Всю ночь, не смыкая глаз, как это бывало на четвертом посту, Тюхин ждал восхода. И терпение его было вознаграждено: заря опять зажглась! Вспышкой, как по команде старшины, осветила затянутые тучами небеса. И что примечательно, эпицентр сияния находился на этот раз заметно правей, переместившись, если брать азимут, со лба на правый висок неподвижно висевшего товарища Кикимонова. А когда алое свечение объяло весь горизонт, когда просветление приняло необратимый характер -- от рассветного ветра проснулась бесчисленная листва, рдяным огнем загорелись пуговицы на кителе подполковника, расскрипелся его персональный сук -- вот тогда-то и увидел вдруг Тюхин над водой, на фоне жизнерадостных зоревых декораций, странную, устало взмахивавшую непропорционально длинными крыльями, безголово-плоскотелую златосветящуюся птицу. Была она огромна размерами и летела прямехонько на Древо Спасения. И вот это воздушное недоразумение мало-помалу приблизилось, а когда Тюхин, разглядев хорошо знакомую ему анодированную пряжку на левом крыле, открыл уже было рот, чтобы по своему тюхинскому обыкновению ахнуть: "Да это как же это?!", -- птица, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся, казалось бы, навсегда пропавшими Витюшиными часиками, радостно чирикнула и таким вовеки незабвенным, таким канифольно-скрипучим голосом Звезданутого Зеленого Зюзика вскричала: -- Мфуси-руси -- бхай-бхай! О, наконец-то, наконец-то! Через пространства, через долгое тридцатилетие!.. О!.. Слушай, ты зачем меня отдал этой полоумной рецидивистке?! Знаешь, что она со мной сотворила?! И эти совершенно сумасшедшие, неизлечимо вольтанутые часики, часто-часто маша ремешками, зависли над деревом, И Тюхин, к своему ужасу, узрел, что на циферблате были все те же "без тринадцати 13", но теперь уже навсегда, до скончания всех времен и народав, потому что заводная головка на часах отсутствовала !.. -- Видишь?! Ты видишь?! -- злобно зашипел лишенный способности трансформироваться семизвездочный мфусианин. -- А кто виноват? Ты! Ты-ии!.. О, сколько мыслей, сколько душевных мук!.. Но наконец-то!.. Так торжествуй же справедливость! И чудовищная птица-Роллекс пала с небес на дерево с хищным, ничего хорошего не обещавшим Тюхину, щебетом. Спас беззаветно влюбленный в поэзию товарищ Кикимонов, которым рядовой Мы, со свойственной ему солдатской смекалкой, успел в последний момент заслониться. -- Ах, ты так?! Ты вот как! -- всклекотали остервеневшие часики и, взмыв в зенит, стали готовиться к новой атаке. -- Э-э, да ты что, ты это... ты серьезно? -- не поверил ошеломленный Витюша. И тут эта кибернетическая бестия, хищно пощелкивая механическими внутренностями, развеяла его последние сомнения: -- Еще как! О сколько раз, сколько раз в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях уже не Тюхин, а некто в нем пребывающий, как Зюзик в часиках, как бы отключая его, брал управление на себя. Так произошло и в этот роковой миг. Совершенно не отдавая отчета в том, что он творит, рядовой Мы сунул руку в карман брюк и, вытащив дедулинскую, непонятно как очутившуюся там, гайку, размахнулся и швырнул ее в нападавшего. Жалобно звякнуло стекло. Испуганно цвикнув, непоправимо испорченные Витюшины "роллексы" шарахнулись в сторону и с истерическим криком: "Убил! Уби-ил, окаянный!" -- кинулись прочь, панически маша серыми, обтянутыми кожей степной тютюнорской гадючки, Ромкиными ремешками. И не успел Витюша опомниться, перевести дух, как, словно в плохой пьесе, совсем рядом где-то всплюхнула вода, зазвучал до тошноты родной козлиный хохоток. -- "Гром победы раздавайся! Веселися храбрый росс!" -- как всегда, глумясь, вскричал подплывающий к Древу на самодельном, из положенных на канистры дверей пищеблока, плоту, опять совершенно голый -- в одних черных очках да в резиновых калошах Рихард Иоганнович Зоркий, он же -- Зорькин, он же -- Зорге, он же Рихард З. и т. д. и т. п. -- Ай да выстрел! Влет, навскидку! Такому бы выстрелу сам убиенный вами Зловредий Падлович позавидовал! Ну-с, насколько я понимаю, жизнь... м-ме... продолжается! Мы с вами, похоже, все еще мыкаемся, рядовой Мы?!