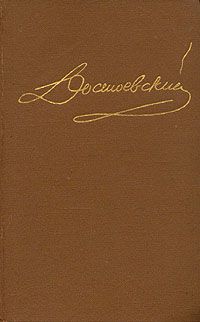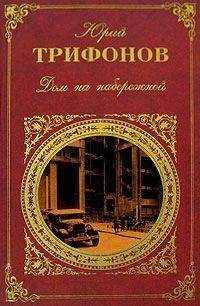— В вас всё совершенство… даже то, что вы худы и бледны… вас и не желаешь представить иначе… Мне так захотелось к вам прийти… я… простите…
— Не просите прощения, — засмеялась Настасья Филипповна, — этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?
— Да.
— Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню…
Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тоцкий тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
— Но, однако, что же удивительного в появлении князя? — закричал громче всех Фердыщенко. — Дело ясное, дело само за себя говорит!
— Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, — подхватил вдруг молчавший Ганя. — Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны, на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще давеча о том подумал, в чем теперь убежден совершенно и в чем, мимоходом сказать, князь мне сам признался.
Всю эту фразу Ганя высказал чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным.
— Я не делал вам признаний, — ответил князь покраснев, — я только ответил на ваш вопрос.
— Браво, браво! — закричал Фердыщенко. — По крайней мере искренно; и хитро, и искренно!
Все громко смеялись.
— Да не кричите, Фердыщенко, — с отвращением заметил ему вполголоса Птицын.
— Я, князь, от вас таких пруэсов* не ожидал, — промолвил Иван Федорович. — Да знаете ли, кому это будет впору? А я-то вас считал за философа! Ай да тихонький!
— И судя по тому, что князь краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица, я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения, — вдруг и совершенно неожиданно проговорил, или, лучше сказать, прошамкал, беззубый и совершенно до сих пор молчавший семидесятилетний старичок учитель, от которого никто не мог ожидать, что он хоть заговорит-то в этот вечер. Все еще больше засмеялись. Старичок, вероятно подумавший, что смеются его остроумию, принялся, глядя на всех, еще пуще смеяться, причем жестоко раскашлялся, так что Настасья Филипповна, чрезвычайно любившая почему-то всех подобных оригиналов старичков, старушек и даже юродивых, принялась тотчас же ласкать его, расцеловала и велела подать ему еще чаю. У вошедшей служанки она спросила себе мантилью, в которую и закуталась, и приказала прибавить еще дров в камин. На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого.
— Господа, не хотите ли пить шампанское, — пригласила вдруг Настасья Филипповна. — У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее. Пожалуйста, без церемонии.
Предложение пить, и особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Вообще вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако, не отказались, во-первых, сам генерал, во-вторых, бойкая барыня, старичок, Фердыщенко, за ними и все. Тоцкий взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему по возможности характер милой шутки. Один только Ганя ничего не пил. В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливою и даже угрюмою задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Одни подозревали в ней лихорадку; стали наконец замечать, что и она как бы ждет чего-то сама, часто посматривает на часы, становится нетерпеливою, рассеянною.
— У вас как будто маленькая лихорадка? — спросила бойкая барыня.
— Даже большая, а не маленькая, я для того и в мантилью закуталась, — ответила Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь.
Все затревожились и зашевелились.
— А не дать ли нам хозяйке покой? — высказался Тоцкий, посматривая на Ивана Федоровича.
— Отнюдь нет, господа! Я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие особенно сегодня для меня необходимо, — настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости узнали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал и Тоцкий еще раз переглянулись, Ганя судорожно шевельнулся.
— Хорошо в пети-жё* какое-нибудь играть, — сказала бойкая барыня.
— Я знаю одно великолепнейшее и новое пети-жё, — подхватил Фердыщенко, — по крайней мере такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось.
— Что такое? — спросила бойкая барыня.
— Нас однажды компания собралась, ну и подпили это, правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!
— Странная мысль, — сказал генерал.
— Да уж чего страннее, ваше превосходительство, да тем-то и хорошо.
— Смешная мысль, — сказал Тоцкий, — а впрочем, понятная: хвастовство особого рода.
— Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович.
— Да этак заплачешь, а не засмеешься, с таким пети-жё, — заметила бойкая барыня.
— Вещь совершенно невозможная и нелепая, — отозвался Птицын.
— А удалось? — спросила Настасья Филипповна.
— То-то и есть что нет, вышло скверно, всяк действительно кое-что рассказал, многие правду, и представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали, а потом всякому стыдно стало, не выдержали! В целом, впрочем, было превесело, в своем то есть роде.
— А право, это бы хорошо! — заметила Настасья Филипповна, вдруг вся оживляясь. — Право бы, попробовать, господа! В самом деле, нам как-то невесело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать… в этом роде… разумеется, по согласию, тут полная воля, а? Может, мы выдержим? По крайней мере ужасно оригинально…
— Гениальная мысль! — подхватил Фердыщенко. — Барыни, впрочем, исключаются, начинают мужчины; дело устраивается по жребию, как и тогда! Непременно, непременно! Кто очень не хочет, тот, разумеется, не рассказывает, но ведь надо же быть особенно нелюбезным! Давайте ваши жеребьи, господа, сюда, ко мне, в шляпу, князь будет вынимать. Задача самая простая, самый дурной поступок из всей своей жизни рассказать, — это ужасно легко, господа! Вот вы увидите! Если же кто позабудет, то я тотчас берусь напомнить!
Идея никому не нравилась. Одни хмурились, другие лукаво улыбались. Некоторые возражали, но не очень, например Иван Федорович, не желавший перечить Настасье Филипповне и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль. В желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их, хотя бы это были самые капризные и даже для нее самой бесполезные желания. И теперь она была как в истерике, суетилась, смеялась судорожно, припадочно, особенно на возражения встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красных пятна. Унылый и брезгливый оттенок физиономий некоторых из гостей, может быть, еще более разжигал ее насмешливое желание; может быть, ой именно нравилась циничность и жестокость идеи. Иные даже уверены были, что у ней тут какой-нибудь особый расчет. Впрочем, стали соглашаться: во всяком случае было любопытно, а для многих так очень заманчиво. Фердыщенко суетился более всех.
— А если что-нибудь такое, что и рассказать невозможно… при дамах, — робко заметил молчавший юноша.
— Так вы это и не рассказывайте; будто мало и без того скверных поступков, — ответил Фердыщенко, — эх вы, юноша!
— А я вот и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать, — включила бойкая барыня.
— Дамы от обязанности рассказывать увольняются, — повторил Фердыщенко, — но только увольняются; собственное вдохновение с признательностью допускается. Мужчины же, если уж слишком не хотят, увольняются.
— Да как тут доказать, что я не солгу? — спросил Ганя. — А если солгу, то вся мысль игры пропадает. И кто же не солжет? Всякий непременно лгать станет.
— Да уж одно то заманчиво, как тут будет лгать человек. Тебе же, Ганечка, особенно опасаться нечего, что солжешь, потому что самый скверный поступок твой и без того всем известен. Да вы подумайте только, господа, — воскликнул вдруг в каком-то вдохновении Фердыщенко, — подумайте только, какими глазами мы потом друг на друга будем глядеть, завтра например, после рассказов-то!