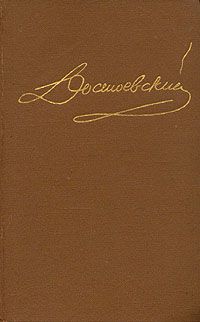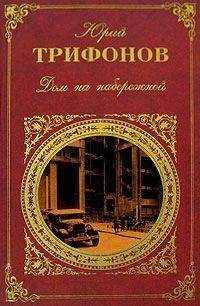— Да разве это возможно? Неужели это в самом деле серьезно, Настасья Филипповна? — с достоинством спросил Тоцкий.
— Волка бояться — в лес не ходить! — с усмешкой заметила Настасья Филипповна.
— Но позвольте, господин Фердыщенко, разве возможно устроить из этого пети-жё? — продолжал, тревожась всё более и более, Тоцкий. — Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются; вы же сами говорите, что это не удалось уже раз.
— Как не удалось! Я рассказал же прошедший раз, как три целковых украл, так-таки взял да и рассказал!
— Положим. Но ведь возможности не было, чтобы вы так рассказали, что стало похоже на правду и вам поверили? А Гаврила Ардалионович совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть послышится фальшь, и вся мысль игры пропадает. Правда возможна тут только случайно, при особого рода хвастливом настроении слишком дурного тона, здесь немыслимом и совершенно неприличном.
— Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович, так даже меня дивите! — вскричал Фердыщенко. — Представьте себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стало похоже на правду, Афанасий Иванович тончайшим образом намекает, что я и не мог в самом деле украсть (потому что это вслух говорить неприлично), хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень бы мог украсть! Но к делу, господа, к делу, жеребьи собраны, да и вы, Афанасий Иванович, свой положили, стало быть, никто не отказывается! Князь, вынимайте!
Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий — Фердыщенка, второй — Птицына, третий — генерала, четвертый — Афанасия Ивановича, пятый — свой, шестой — Гани и т. д. Дамы жребиев не положили
— О боже, какое несчастие! — вскричал Фердыщенко. — А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая — генералу. Но, слава богу, по крайней мере Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример, но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен; даже чин на мне самый премаленький; ну, что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут embarras de richesse.[13] Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтоб убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть, вором не бывши.
— Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыщенко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказывая о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали… А впрочем… Извините, господин Фердыщенко.
— Начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете лишнего и никогда не докончите! — раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна.
Все заметили, что, после своего недавнего припадочного смеха, она вдруг стала даже угрюма, брюзглива и раздражительна; тем не менее упрямо и деспотично стояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович страдал ужасно. Бесил его и Иван Федорович: он сидел за шампанским как ни в чем не бывало и даже, может быть, рассчитывал рассказать что-нибудь в свою очередь.
XIV
— Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтаю лишнее! — вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. — Было б у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня всё сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот всё кажется, что на свете гораздо больше воров, чем неворов, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что всё сплошь одни воры, хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?
— Фу, как вы глупо рассказываете, — отозвалась Дарья Алексеевна, — и какой вздор, не может быть, чтобы все что-нибудь да украли; я никогда ничего не украла.
— Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна; но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?
— Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете, — сказал князь, действительно отчего-то покрасневший.
— А вы сами, князь, ничего не украли?
— Фу! как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко, — вступился генерал.
— Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать, вот и хотите князя с собой же прицепить, благо он безответный, — отчеканила Дарья Алексеевна.
— Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите и знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение, — резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна.
— Сию минуту, Настасья Филипповна; но уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь всё равно что сознался, то что же бы, например, сказал другой кто-нибудь (никого не называя), если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего: очень просто, и глупо, и скверно. Но уверяю вас, что я не вор; украл же не знаю как. Это было третьего года, на даче у Семена Ивановича Ищенка, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу чрез угловую комнату, на рабочем столике у Марьи Ивановны три рубля лежат, зеленая бумажка: вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никовошенько. Я взял бумажку и положил в карман, для чего — не знаю. Что на меня нашло — не понимаю. Только я поскорей воротился и сел за стол. Я всё сидел и ждал, в довольно сильном волнении, болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся; подсел потом к барыням. Чрез полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью-служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие и помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтоб она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны, и это вслух, и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно оттого, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти три целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту*; никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего; захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз наверное не повторил бы; этому верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Ну-с, вот и всё.
— Только, уж конечно, это не самый худший ваш поступок, — с отвращением сказала Дарья Алексеевна.
— Это психологический случай, а не поступок, — заметил Афанасий Иванович.
— А служанка? — спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения.
— А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом.
— И вы допустили?
— Вот прекрасно! Так неужели же мне было пойти и сказать на себя? — захихикал Фердыщенко, впрочем пораженный отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа.
— Как это грязно! — вскричала Настасья Филипповна.
— Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете! Самые скверные поступки и всегда очень грязны, мы сейчас это от Ивана Петровича услышим; да и мало ли что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли кто свою карету имеет… И какими способами…
Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя, перешел чрез мерку; даже всё лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти «промахи» дурного тона и «хвастовство особого рода», как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенком и были совершенно в его характере.
Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенка; тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга: слишком далеко уж зашел.
— А не кончить ли совсем? — лукаво спросил Афанасий Иванович.
— Очередь моя, но я пользуюсь моею льготой и не стану рассказывать, — решительно сказал Птицын.
— Вы не хотите?
— Не могу, Настасья Филипповна; да и вообще считаю такое пети-жё невозможным.
— Генерал, кажется, по очереди следует вам, — обратилась к нему Настасья Филипповна, — если и вы откажетесь, то у нас всё вслед за вами расстроится, и мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение один поступок «из моей собственной жизни», но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить, — заключила она рассмеявшись.
— О, если и вы обещаетесь, — с жаром вскричал генерал, — то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать; но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот…