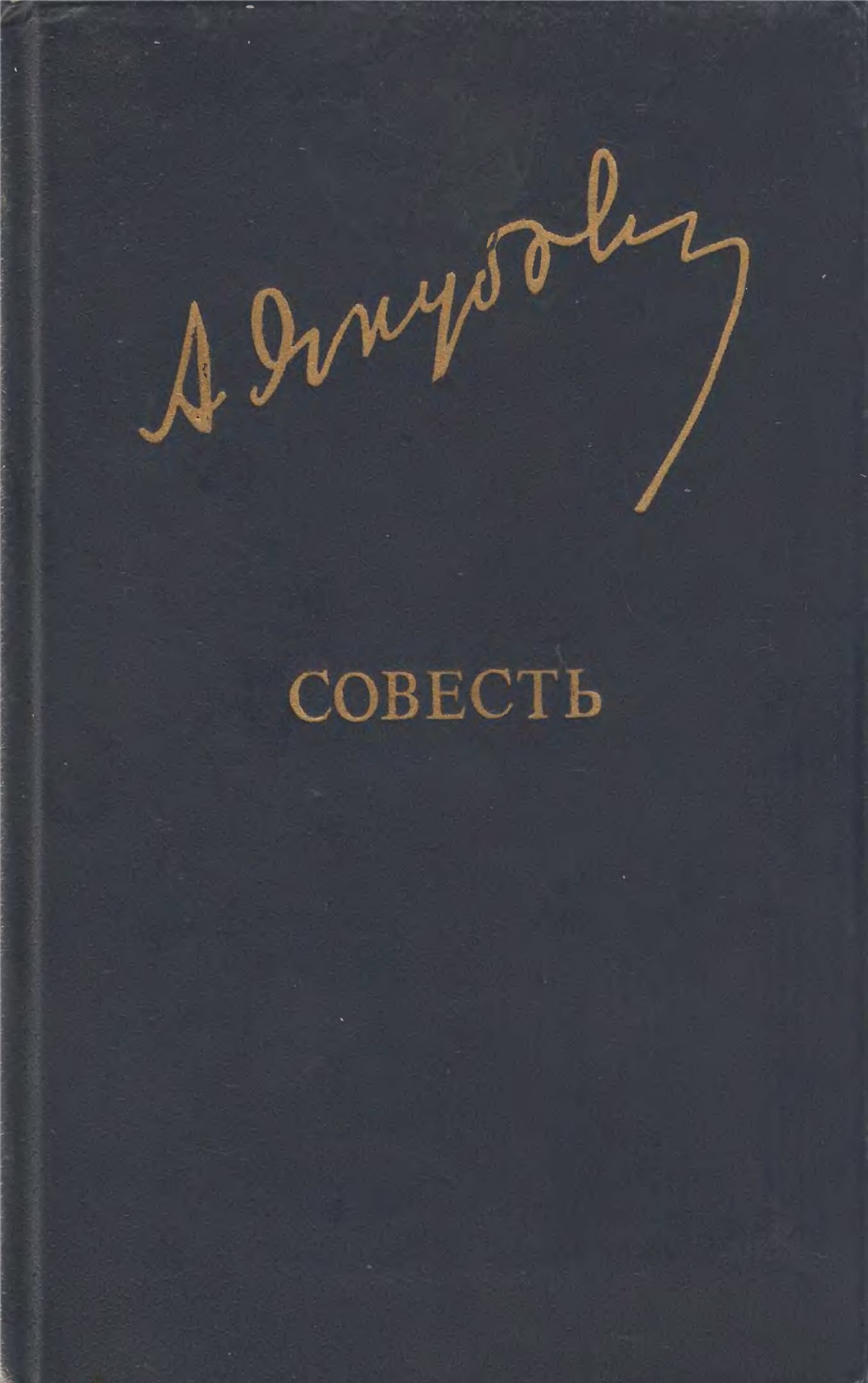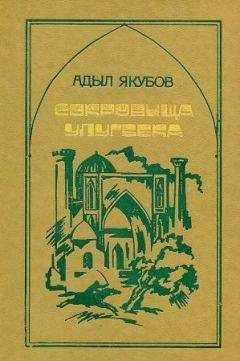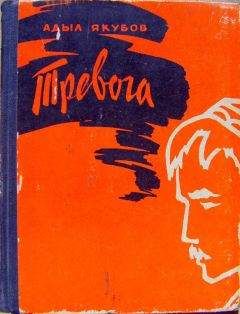Рима и Багдада, Каира и Константинополя!
Да минует нас такая судьба, да пройдут скорее дни испытаний и несчастий, и пусть на престол Мавераннахра вновь воссядет повелитель-устод!.. Если же нет, если шах-заде укрепит свою бесчеловечную власть, то… скройтесь здесь, книги, лежите в безопасности, как дитя в материнской утробе. Лишь бы он, Али Кушчи, не сбился с пути, лишь бы ничего не помешало ему по дороге.
Нет, Али Кушчи достаточно было побывать в каком-нибудь месте один раз, чтобы запомнить и место это, и путь к нему.
Вот оно, джайляу, на котором в ту давнюю осень они разбили шелковые шатры. Окруженное снежными вершинами, это джайляу полно сейчас особой, божественно прекрасной тишины. Лишь стрекотанье сверчков нарушает ее да рокот далекого ручья.
То самое джайляу, то самое. Ну конечно, ведь на склоне холма, среди арчовых зарослей, они поставили тогда шатры, а внизу, у ручья, паслись белые кобылицы, чье молоко шло на кумыс, столь желанный после обильных возлияний.
Пронеслись годы. И что исполнилось из того, о чем говорили они с устодом в ту давнюю охотничью осень?
Ничего не поделаешь: слишком жестокой оказалась жизнь, слишком немилосердным мир.
Али Кушчи снова вспомнил Салахиддина-ювелира, и на этот раз, как было всегда, когда он вспоминал черную неблагодарность, сердце заныло от горькой обиды. Ну ладно бы, если такими неблагодарными оказались только ювелир и его сын. А то ведь и другие…
В тот самый день, когда разгневанный мавляна вышел из дома Ходжи Салахиддина, встретился ему по дороге какой-то нищий в старом лоскутном халате. На узкой улочке им предстояло разойтись, что и хотел сделать Али Кушчи, не обратив внимания на встречного. Но нищий вдруг попятился, сначала замахал руками, что невольно остановило Али Кушчи, а затем почтительно сложил их на груди. Странно дергаясь лицом, нищий заговорил:
— Э-э, мавляна Али Кушчи… Ассалям алейкум, хвала вам, хвала!
Али Кушчи не поверил глазам: в рубище нищего, в этой изодранной тюбетейке предстал перед ним известный в придворных кругах и — во всей столице поэт Мирюсуф Хилвати. В последнее время Али Кушчи не видел его, и вот, оказывается…
— Что произошло, друг мой? Почему вы в таком наряде?
— Осторожность, осторожность, мавляна, — пропел Мирюсуф, озираясь по сторонам. — Береженого бережет всевышний. А благосклонный, отмеченный судьбою шах-заде может взять под стражу и посадить под замок не одного только родителя своего… Лихие времена, мавляна, ой, лихие! Лучше уйти из города, лучше изменить облик., лучше исчезнуть на время с глаз людских. — И с этими словами Мирюсуф свернул в соседний узкий переулок.
«Родитель», «под замок», «шах-заде благосклонный», а ведь совсем недавно, на весеннем пиршестве у повелителя в «Баги майдан», пиршестве, на которое приглашены были и ученые, и поэты, и музыканты, пиршестве, где рекой лились вино и стихи, где все наслаждались искусством танцовщиц и ими самими, — на том пиршестве Мирюсуф Хилвати с большим чувством прочитал стихотворение, посвященное повелителю-устоду. Али Кушчи до сих пор помнит:
Победоносный дед восславлен целым миром,
Луч милостей его ловил богач и сирый.
Шахрух, отец твой, был поистине счастливый:
Для скольких душ он стал владыкой и кумиром!
Над троном поднялась теперь заря науки.
Забыли ныне все про горести и муки,
Согласен танец звезд — твоих рабынь прекрасных, —
И музыки его мы сердцем ловим звуки.
А теперь этот лизоблюд изо всех сил спасает шкуру!
И сколько их, льстецов и лжецов, среди придворных. Матушка Тиллябиби недаром плакала на плече мавляны, умоляя его покинуть город, спрятаться где-нибудь в укромном углу, переждать беду. Но он, Али Кушчи, шагирд Улугбека, его друг, не станет, не станет подобным какому-нибудь Хилвати, не отвернется от устода в тяжелую годину — он ведь не трус, он не мавляна Мухиддин. А если вдруг судьба повернется и снова окажется благосклонной к устоду? Что тогда будут делать, что запоют те, кто ныне изменил Улугбеку? Неужто опять будут низко кланяться, воспевать-восхвалять, презрев укоры совести и делая — вид, будто ничего и не было?
«Чему тут удивляться, чем возмущаться, Али? Разве неверность — не вечное проклятие рода человеческого? Люди подчиняются разуму — так следовало бы считать, — разуму и совести, разуму и добру. А на деле — и об этом говорили много раз многие-многие поэты и мудрецы — люди подчиняются лжи и богатству, мечу и трону. А коли так, надо, пожалуй, не очень-то рассчитывать на разум людской, на чувство добра, якобы извечно присущее людям…»
Не считает он и устода, даже устода, полностью безгрешным и всецело добродетельным. Конечно, чаще всего Али Кушчи видел Улугбека в часы мудрого спокойствия, столь приличествующего ученому человеку. Но были минуты, когда повелитель преображался в существо дикое, по-дедовски яростное и несправедливое, — минуты, не постигаемые разумом, объяснимые разве что и впрямь тимуровской своевольной кровью.
В памяти нежданно всплыла давняя сцена — ее Али Кушчи не мог вспоминать без содрогания и стыда, гнал, бывало, ее от себя, да вот сейчас почему-то дал свободу воображению.
Случилось это в тот далекий год, когда обсерваторию только начинали, закладывали фундамент, и они, молодые талибы медресе Улугбека, ходили помогать строителям. Водительствовал ими незабвенный Кази-заде Руми. Однажды подходили они к холму, где возводилась обсерватория, и уже издали слух их поражен был чьими-то отчаянными стенаниями, перебиваемыми яростными криками и руганью., кого бы? — повелителя, устода Улугбека! Зрелище, открывшееся взорам талибов, когда они со скоростью вихря взбежали наверх, было невыносимо: распаленный, весь какой-то взлохмаченный Улугбек, стоя на груде сваленных как попало кирпичей, избивал тяжелой плетью с металлическим наконечником пожилого строителя-каменщика, согнувшегося, обнаженного до пояса. Руками каменщик пытался хоть как-то прикрыть лицо и голову, но и по бритой его голове, потным, дрожащим плечам и рукам, а уж тем паче по спине гуляла зловеще свистящая плеть, и темнокрасные следы ее на человеческом теле были густы и страшны!
Кази-заде Руми поднялся на холм чуть позже талибов, так и остолбеневших при виде этого жестокого избиения. А наставник — в широко раскрытых глазах его, обычно скромно опущенных долу, на сей раз гнев, протест, смятение! — кинулся вперед и крикнул резко: «Повелитель! Недостойно… недостойно вас!»
Мирза Улугбек на мгновение замер с вознесенной плетью, обвел всех мутным, ничего не видящим взглядом, шагнул навстречу ученому, каким-то изломанным движением сунул ему в руку плетку, неловко повернулся и зашагал прочь. Кази-заде Руми тут же выронил плеть и брезгливо провел по халату