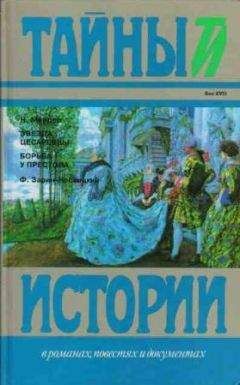– Да здравствует императрица Анна Иоанновна! – раздались голоса, но без особого воодушевления.
Все уже давно считали вопрос об избрании решенным. Это было, так сказать, официальное приветствие.
Когда смолкли крики, граф Головкин продолжал при настороженном внимании всего собрания:
– Но сего мало. В неизреченном милосердии своем, в заботах о верных подданных своих императрица решила облегчить участь всех сословий, оградив их честь и животы новыми благими законами, без своевластия и произвола. Князь Дмитрий Михаилыч доложит высокому собранию собственноручное письмо императрицы Верховному совету, а также и условия правления всемилостивейшей государыни.
Среди собравшихся произошло движение, и снова все замерли.
– «Любезно верным нашим подданным, присутствующим в Тайном верховном совете…» – громко и медленно начал читать Дмитрий Михайлович.
Его напряженно слушали.
В своем письме Анна отчасти повторяла то, что говорила при приеме депутатов в Митаве. Но так как письмо было отправлено с ведома Василия Лукича, то он предложил Анне внести в него некоторые дополнения.
Любопытство собрания достигло своего предела, когда Дмитрий Михайлыч прочел заключительные слова письма:
– «Дабы всяк мог ясно видеть горячесть и правое наше намерение, которое мы имеем ко отечеству нашему и верным нашим подданным, елико время нас допустило, написали, какими способы мы то правление веста хощем…» -
Наступила самая важная минута. Наконец‑то стане! ясно, чего хотели, чего добивались верховники, какими путями ограничили они верховную власть, что дали другим и что оставили себе.
Сами верховники чувствовали приближающуюся грозу. И в эти минуты Дмитрий Михайлович пожалел, что все содержалось в такой тайне, что он не посвятил в проекты своих преобразований широкие шляхетские круги. Сейчас уже не время говорить о них… а кондиции всю волю дают только Верховному совету.
Он медленно взял со стола лист и начал читать.
Представители Синода с чувством удовлетворения выслушали стоящее на первом месте» наикрепчайшее обещание» хранить и распространять православную веру греческого исповедания.
Но мгновенный ропот прошел по собранию, когда Голицын дошел до места об утверждении Верховного тайного совета в постоянном составе» восьми персон». И снова все затихли.
Но уже открытый ропот послышался при чтении пункта четвертого: «Гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета».
– Мы не хотим служить Верховному совету, – раздался голос из толпы армейских офицеров. – Мы служим императрице!
– И я буду служить вам? – сверкая глазами, произнес фельдмаршал Иван Юрьевич Трубецкой, стоявший возле самого стола.
Граф Головкин поднял руку:
– Прошу высокое собрание выслушать до конца.
Ропот стих, и Дмитрий Михайлович дочитал кондиции.
– Но каким образом то правление быть имеет? – спросил Черкасский. – Тут видно только, что правление будет в руках верховников.
– Удивительно, откуда государыне пришло на ум так писать, – с насмешливой улыбкой произнес Ягужинский.
– А тебе это не нравится, Павел Иваныч? – с затаенной угрозой спросил его фельдмаршал Долгорукий.
Собрание, видимо, было крайне возбуждено, но никто не решался выступить открыто против верховников.
Утренняя тьма уже рассеялась. Через большие окна лился яркий свет зимнего солнца, и в его лучах бледнели желтые пятна горящих ламп и свечей, и этот смешанный свет придавал странный, призрачный оттенок лицам присутствующих.
Чтобы загладить неприятное впечатление и высказать свои заветные мысли, Дмитрий Михайлович обратился к собранию с речью.
– Нет, – горячо заговорил он. – Не о благе своем, не о самовластии думал Верховный совет, предлагая императрице кондиции. Но о благе всего народа… Эти кондиции, – произнес он, высоко поднимая лист, – это первая ступень. Мы хотим воли равно всем сословиям. Мы все, как дети одного отечества, будем искать общей пользы и благополучия государству. Эти кондиции развязали нам руки. Мы вольны теперь сами изыскивать лучшее управление. И вы, представители Сената, Синода и генералитета и шляхетства, ищите общей пользы, представьте свои мнения и проекты, и мы вместе обсудим их… Сам Бог вдохновил императрицу подписать для своей славы и блага отечества эти кондиции. Отсюда будет счастливая и цветущая Россия! – закончил он.
Его слова произвели значительное впечатление, особенно на шляхетский кружок. Но угрюмо молчали высшие сановники. Этими кондициями у них были вырваны всякая власть и значение. Помимо императрицы, ими будет распоряжаться Верховный совет, то есть Долгорукие И Голицыны. И верховники инстинктивно почувствовали, что наступает час борьбы упорной, беспощадной, борьбы на смерть. Самый решительный в своих поступках, не останавливающийся ни перед чем, фельдмаршал Долгорукий громко сказал:
– Это воля императрицы. Исполнение этой воли возложено на Верховный тайный совет. И Верховный тайный совет исполнит свой долг. Это говорю я! Подполковник Преображенского полка, фельдмаршал российской армии! Как бы высоко ни поднималась голова, непокорная воле императрицы, я достану ее.
И фельдмаршал грозным движением положил руку на рукоять шпаги. Враждебное молчание встретило его слова.
Ягужинский стоял, опустив голову. Несколько мгновений Долгорукий молча смотрел на него. Казалось, он колебался, но, взглянув по сторонам и увидя полные нескрываемой, невысказанной ненависти лица высшего генералитета, он наклонился к уху Дмитрия Михайловича и что‑то прошептал. Дмитрий Михайлович бросил быстрый взгляд на Ягужинского и в свою очередь что‑то тихо сказал фельдмаршалу Михаилу Михайловичу.
Тот медленно и важно наклонил голову. Только этого, казалось, и ждал Долгорукий. Обратившись к собранию, он снова начал:
– Мы не можем и не смеем щадить врагов отечества и ее величества. Перед высоким собранием я исполню тяжелый долг. – Он помолчал.
Стоявшие в первом ряду знатнейшие сановники тревожно переглядывались.
– Павел Иванович, – сурово продолжал фельдмаршал. – От имени Верховного тайного совета, властью, доверенной ему императрицей, за письмо, отправленное тобою императрице и направленное против блага отечества и интересов ее величества, объявляю тебя арестованным впредь до суда!
Упавший с потолка гром не так поразил бы собрание, как эти грозные слова. Словно протяжное, глухое» о – о-ох» пронеслось по собранию.
Арестовать всенародно графа, генерал – адъютанта, Андреевского кавалера, человека, связанного родством и свойством с Трубецкими, Барятинскими, Ромодановскими, Черкасскими! Это было неслыханно.
Ягужинский, страшно побледневший, поднял голову и воскликнул:
– Вы не судьи мои! Пусть судит меня императрица! Канцлер, смотри!
Головкин с жаром убеждал в чем‑то Дмитрия Михайловича. В невольном движении вокруг Ягужинского столпились Черкасский, Трубецкой, Барятинский и недавно приехавший Лопухин. Казалось, они готовы были оказать прямое сопротивление. Лицо Василия Владимировича словно окаменело. Он сделал Степанову знак. Распахнулась дверь, и с ружьями наперевес тяжелыми шагами в залу вошли солдаты во главе с капитаном Лукиным, командовавшим в этот день караулом.
– Возьмите его, – повелительно произнес фельдмаршал, указывая на Ягужинского.
– Меня, меня? – крикнул, не помня себя, Ягужинский.
– Василий Владимирович, остановись, – произнес фельдмаршал Иван Юрьевич.
Солдаты молча двинулись вперед и остановились перед Ягужинским. Отсалютовав обнаженной шпагой, капитан Лукин произнес, обращаясь к Ягужинскому:
– Ваше сиятельство, извольте следовать за мной.
Глухой ропот пронесся по собранию.
– Именем ее величества я объявляю графа Ягужинского изменником отечества, – громким голосом произнес фельдмаршал Долгорукий.
При этих словах в зале наступило молчание.
– Я не тать, не разбойник, – дрожащим голосом начал Ягужинский. – Я генерал российской армии и верный подданный императрицы. Не признаю суда вашего надо мною. Вы ли сейчас говорили о свободе! Не вы разве восстали против бедствий самовластья! Хорошо, я повинуюсь силе!..
– Да, – ответил Дмитрий Голицын. – Мы хотели свободы, ты хотел неволи! Мы хотели стать свободными людьми, и императрица соизволила даровать нам свободу! Ты хотел остаться рабом и оставить других в рабстве! Так и оставайся же рабом! – закончил он.
В последний раз окинул Ягужинский взглядом окружающих. Фельдмаршал Трубецкой стоял как оглушенный громом. Лицо толстого Черкасского налилось кровью, и было страшно за него. Барятинский и Лопухин стояли бледные и безмолвные.
– Я готов, – упавшим голосом произнес Ягужинский и сделал шаг вперед.