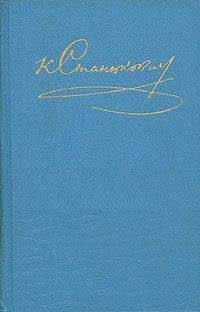Все это он проделал необыкновенно красиво и изящно, словно бы показывая всем присутствующим, что значит человек с изящными манерами, и когда Снежков, получив из рук адмирала тарелочку, отскочил наконец от стола, обливаясь потом и красный как рак, точно выйдя из бани, Аркадий Дмитриевич налил себе крошечную рюмку аллаша, взял ее двумя пальцами, грациозно отставив остальные, и не спеша выпил, закусил крошечным кусочком икры и отошел назад.
— Это, верно, так полагается по-придворному? — шепнул Ивков своему приятелю.
— Противно на него смотреть! И ведь как задается![11] — отвечал Подоконников.
— Удивляюсь, Аркадий Дмитрич, как вы любите такую дрянь, — как аллаш! — неожиданно заметил адмирал.
— У всякого свой вкус, ваше превосходительство…
— То-то я и удивляюсь вашему вкусу… А впрочем, в Петербурге многие гвардейцы любят этот аллаш. Вот Иван Иваныч, я полагаю, так не любит, а?
— Я, ваше превосходительство, люблю, чтобы водка — так водка… Горечь чтобы была-с, — отвечал старый штурман, посматривавший на «наперсток» Ратмирцева и на него самого с чувством глубочайшего тайного презрения, как на человека совершенно пустого, заносчивого и неспособного.
— Не смею спорить, ваше превосходительство, особенно с таким авторитетным человеком в этом деле, как почтеннейший Иван Иванович, — проговорил любезно-мягким тоном «придворный суслик», взглядывая на старого штурмана с снисходительно-любезной небрежностью, как на человека совершенно другой и низшей расы. Ратмирцев искренне был убежден, что штурман — это нечто мизерное и терпимое только в море.
Старый почтенный штурман, всю жизнь свою честно тянувший лямку и пользовавшийся уважением и адмирала, и всех своих сослуживцев, понял, конечно, и этот намек на то, что он любит выпить, почувствовал и этот высокомерный взгляд, но ничего не ответил. «Не стоит, дескать, связываться!»
И словно бы желая показать, что не обращает ни малейшего внимания на намек Ратмирцева, подошел к столу и налил себе третью рюмку водки.
— И я с вами, Иван Иванович! — весело сказал капитан.
— Вистнете-с, Николай Афанасьич?
— Вистну!..
Адмирал продолжал угощать и всем накладывать икры, хотя и не в таком количестве, как капитану и старшему офицеру, и был, видимо, доволен, что и Николай Афанасьевич, и старший офицер как будто на него не сердятся.
— Прошу садиться, господа! — весело проговорил он, когда Васька и его подручный, молодой вестовой Гаврилов, оба в белых нитяных перчатках, расставили тарелки с супом.
По правую руку адмирала сел Николай Афанасьевич, а по левую Ратмирцев, затем старший офицер, старший штурман, доктор и остальные. Молодежь сидела на «баке», то есть на другом конце стола, где прямо против адмирала сидел флаг-офицер, на обязанности которого было, между прочим, разрезывать птицу, когда таковая подавалась на жаркое, и наливать гостям на «баке» вино.
Обед был превосходный, особенно принимая в соображение, что «Резвый» уже две недели был в море. После супа с пирожками была подана консервованная лососина, превосходно приготовленная с разнообразным гарниром. Адмирал зорко следил, чтобы все ели, и часто кричал Вербицкому, что около него у гостей пустые рюмки.
И за обедом адмирал видимо особенно ухаживал и за Николаем Афанасьевичем, и за старшим офицером, то и дело подливая и тому и другому вина в различные рюмки, красовавшиеся у приборов и прежде, бывало, сбивавшие с толку многих гардемаринов, пока адмирал не научил их, какое вино и в какие рюмки следует наливать.
Когда подали поросенка с гречневой кашей, Монте-Кристо, уже слегка размякший после нескольких рюмок хереса, портвейна и красного бургонского, совершенно забыл о «кафешантане» и о своем намерении проситься в Россию, тем более что адмирал весьма кстати вдруг припомнил, как однажды у них на корабле «Наварине», которым командовал сам Павел Степанович Нахимов, на глазах у всей эскадры долго не могли переменить марселей.
— Шкипер, каналья, виноват был…
— И что же, ваше превосходительство, Павел Степанович задал такую же гонку, как и вы нам сегодня? — спросил, улыбаясь, Монте-Кристо.
— А вы все еще не забыли?.. Экий злопамятный! Ну, мало ли иногда что бывает?.. Разве сами-то вы сегодня не сердились в душе… Разве вам не было обидно-с?.. Спросите-ка у Михаила Петровича, как ему досадно было… Не так ли, Михаил Петрович?..
— Совершенно верно, ваше превосходительство…
— То-то и есть… Мы, моряки, всё слишком горячо принимаем к сердцу… в этом-то и сказывается любовь к делу, хоть часто мы и беснуемся из-за пустяков… Но и пустяки иногда важны… да-с… Эй, Васька! Подавай еще поросенка Сергею Александровичу… Он любит поросенка с кашей… Кушайте, Сергей Александрыч!..
Разговоры оживились к концу обеда. Адмирал рассказал, как однажды в Черном море два капитана держали пари на легавого щенка, кто скорей снимется с якоря.
— Так что бы вы думали сделал Ивков, покойный брат нашего зубоскала?..
— А что, ваше превосходительство?
— Видит он, что шкуна, с командиром которой он держал пари, его обгоняет, все гребные суда подняла, а у него еще баркас не поднят… Он, чтобы выиграть время, велел баркас утопить, оставив на месте буек, поднял якорь, поставил паруса и был таков на своем тендере… щенка-то и выиграл… После уж он сам признался, на какой пошел фокус… Фокус-то фокусом, а находчивость… Такой командир и с неприятелем найдется… Вот что значит — школа черноморская…
В свою очередь, и Монте-Кристо рассказал, как они на фрегате «Коршун» «втирали очки» одному адмиралу.
После пирожного адмирал попросил всех пересесть на диваны. Подали ликеры и кофе.
Адмирал взял под руку Николая Афанасьевича и, отводя его в сторону, тихо сказал:
— А вы уж со Щеглова не взыскивайте, Николай Афанасьич… прошу вас… Он и так наказан… И вообще… на меня не сердитесь… Мало ли что скажешь… Я ведь знаю, что корвет у вас в порядке…
Монте-Кристо ушел от адмирала примиренный с ним. Скоро и адмиралу пришлось убедиться, что Монте-Кристо в критические минуты — образцовый капитан, и это заставило адмирала снисходительнее относиться к его недостаткам.
Когда вслед за капитаном все стали откланиваться, адмирал, веселый и довольный, благодарил всех за посещение и, когда к нему подошел Леонтьев, крепко пожал ему руку и сказал:
— Так мы теперь друзья, не правда ли?
— Друзья, ваше превосходительство! — отвечал, улыбаясь, Леонтьев.
XVII
На корвете все, кроме вахтенных, крепко спали.
Был второй час чудной южной лунной ночи. «Резвый» бесшумно несся вперед, неся почти все паруса.
Мичман Леонтьев, стоявший на вахте, шагал по мостику, зорко поглядывая по сторонам и изредка покрикивая:
— Вперед смотреть!
Вдруг на мостике внезапно показалась фигура адмирала. Он был заспанный, в кителе и в туфлях, одетых на босую ногу.
Постояв минуту-другую, он подошел к Леонтьеву и тихо сказал:
— Вызовите барабанщика, да чтобы без шума.
— Есть!
Через минуту явился барабанщик.
— Пожарную тревогу! — приказал адмирал.
Раздалась тревожная, призывная, долго не умолкавшая дробь.
И не прошло и двух минут, как весь корвет ожил. Раздался топот сотен ног, доносились окрики боцманов. Все стремглав летели по своим местам. Еще минуты две, и все палубы были освещены, все брандспойты готовы, и крюйт-камера в несколько мгновений могла быть затоплена.
Испуганные выскочили капитан и старший офицер, спрашивая у Леонтьева, в каком месте пожар.
— Нигде… Адмирал, — тихо произнес он, указывая на адмирала.
— Ну, пойдемте, господа, посмотрим, — сказал адмирал, обращаясь к капитану и старшему офицеру, — как мы приготовились к пожару… Собрались люди молодцами, как следует на военном судне!
Адмирал в сопровождении капитана и старшего офицера обошел весь корвет. Все было найдено им в образцовом порядке. Все люди по местам. Все инструменты в исправности.
Поднявшись наверх, адмирал приказал поставить команду во фронт и, обходя фронт, благодарил матросов.
— Рады стараться, ваше-ство! — раздалось среди океана.
Затем адмирал велел собраться всем офицерам на шканцах и сказал:
— Видно, что исправное военное судно… От души благодарю вас, Николай Афанасьевич, и вас, Михаил Петрович, и всех вас, господа… Аркадий Дмитриевич!.. Завтра отдайте приказ по эскадре! Спокойной ночи! Распустите команду.
С этими словами адмирал скрылся.
Через пять минут на корвете снова царила тишина, и «Резвый» разрезал своей грудью океанские волны, по-прежнему безмолвный и, казалось, заснувший.
XVIII
Через несколько дней «Резвому» пришлось выдержать жесточайшую «трепку».
Это была одна из тех, по счастию, редких трепок, которые наводят ужас даже на самых опытных и бесстрашных моряков и не забываются ими во всю жизнь. Особенно отзываются они на капитанах. Они, сознающие, что от их находчивости, умения и энергии зависит жизнь сотен людей, переживают ужасные часы в страшном напряжении нервов и, случается, нередко в одну ночь седеют и преждевременно стареются. Вспоминая о таких испытаниях впоследствии, они обыкновенно становятся серьезны и говорят: