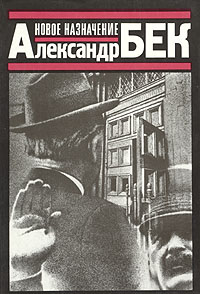class="p1">— Э, я тут зажарюсь, — пошутил Александр Леонтьевич.
— Что же, учтем твое пожелание.
Тевосян легко вскочил, чтобы перейти в тень. Его карие, почти черные глаза кого-то отыскивали на реке.
— Погляди, — сказал он. — Дочка. Вон Красная шапочка.
И, подняв над головой смуглую руку, помахал. Тотчас подплывавшая к берегу Красная шапочка — дочь Тевосяна — вскинула руку, ответно замахала.
— Где-то тут и мой Володька, — продолжал Тевосян. — Сейчас его мобилизуем. В шахматы, Александр Леонтьевич, сразиться не откажешься? Отправим Володю за доской. Ага, он… Кажется, он меня уже узрел.
Жестом он поманил сына, которого Онисимов, признаться, еще не различил. Юноша в трусах, загорелый до шоколадного тона, поднялся с песка, побежал на немой призыв.
Минуту спустя Тевосян-сын, перенявший с удивительной точностью, вплоть до явно обозначившихся усиков, наружность отца, отвесил вежливый поклон Онисимову и воскликнул:
— Папа, я нужен?
— Не в службу, а в дружбу… Тебя не затруднит слетать за шахматами?
— Конечно. О чем говорить?
Онисимов перехватил обращенный на отца сыновний взгляд — в нем читалось обожание. Чуть защемило сердце. Белобрысый Андрейка, поздний плод брачного союза, единственное дитя четы Онисимовых, этак на него, Александра Леонтьевича, уже не поглядывал. Вот и в нынешнее воскресенье, в редкий приезд отца, Андрейка куда-то унесся.
В ожидании шахматной доски давние товарищи сели под сосной. Закурили. Онисимов дымил сигаретой. Тевосян неторопливо затягивался папиросой своей излюбленной марки «Дюшес».
— Знаешь, — произнес Александр Леонтьевич, — как-то мне наше медицинское светило профессор Соловьев дал такой совет: если вы уж курите, то получайте удовольствие. Расположитесь поудобней, работа две минуты подождет, и покуривайте со вкусом.
Оба усмехнулись. Как выкроишь такого рода минуты в стремительном беге рабочих ночей и дней?
Встретившись здесь, в дачном приволье, они о делах не говорили. Это было неписаным правилом — не касаться на отдыхе того, что охватывалось понятием «работа». Заместитель Председателя Совета Министров, разумеется, знал, что несколько дней назад Сталин объявил Онисимову выговор. Знал все постановление относительно способа Лесных. Однако и намеком не тронул этой темы.
Перебрасывались фразами о том о сем, порой молчали. Тевосян лег навзничь, заложив за голову руки. И вдруг средь незначащей беседы он, будто ненароком, произнес:
— Кажется, позавчера тебе переслали заявление Петра Головни. Получил?
— Получил.
Да, Онисимов уже ознакомился с письмом директора Кураковки, адресованным в ЦК партии и в Совет Министров. Письмо было неприятным. Головня-младший обвинял Онисимова в том, что тот на протяжении ряда лет не давал хода его изобретению, ныне все же признанному. И далее требовал… Ну, Онисимову не хотелось сейчас об этом думать. К чему же, однако, Иван Федорович спросил про Головню?
По-прежнему лежа, не поворачивая головы, Тевосян добавил:
— Мне вчера насчет этого звонили от Лаврентия Павловича.
Онисимов ничего не ответил, но, несмотря на зной, ощутил ползущий по спине холодок. От Лаврентия Павловича! То есть Берия уже проведал. И если удалось устоять в деле Лесных, то… Онисимов опять взялся за коробку сигарет. Пальцы мелко сотрясались. Усилием воли он хотел унять эту противную дрожь. И не унял. Сунул коробку в карман, не закурив.
А Тевосян уже заговорил об ином — о своем Володе, об институте, куда метит попасть сын.
Потом появились и шахматы. Смятение мешало Онисимову сосредоточиться. В первой партии он был начисто разгромлен. Но пустив в ход тормоза, он опять стал, как всегда, собранным. Покуривая — кстати, и дрожь пальцев улеглась, — внешне невозмутимый, Онисимов все-таки потеснил партнера, тоже, как и он сам, неплохого шахматиста, вырвал победу во второй партии.
…Хлещет и хлещет его исповедь.
В ту свою ночь откровенности, изливаясь старику академику, Александр Леонтьевич лишь изредка присаживался, нервная взвинченность, волнение подымали его на ноги. Он и теперь вышагивает, подходит к глобусу, смотрит на залитый подтеками голубизны большущий шар:
— Ни один человек на белом свете не презирает меня так, как Петр Головня. И все же… Все же он глядит вот этак…
Поднеся с обеих сторон к глазам распрямленные ладони, — они словно служат шорами, — Онисимов ограничивает обзор.
— Пусть поглядит вот так. — Откинув руки, Александр Леонтьевич озирает потолок и пол, обегает взглядом комнату. — Пусть увидит все.
— А вы сами-то как смотрите? Не хотите видеть будущего.
Онисимов еще остается откровенным:
— Не знаю. Оно, наверное, не для меня. До нынешнего дня мне еще верилось, что вернусь в промышленность. А теперь… Пожалуй, там я теперь не нужен.
Академик встает. Впереди рабочий день, следует прикорнуть и самому, дать отдых и Онисимову, выговорившемуся нынче так, как ему еще, наверное, не случалось, утомленному, если не больному. Да, надобно сказать что-то утешительное:
— Ничего, немного потерпите. Глядишь, и организуется некий Центросовнархоз или Главиндустрия. У нас любят, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить. А то и спустить с него три шкуры. Вот тогда и скажут: «Подать сюда товарища Онисимова, как раз место для него». Я вам, Александр Леонтьевич, это предрекаю.
Онисимов провожает гостя вниз до входной двери. Переживая минувшую необычайную ночь, Челышев по рассветной прохладе добрался к отелю пешком. И вопреки прежнему здравому намерению не лег соснуть. Присел к столу, раскрыл толстую тетрадь, сопровождавшую его и в Тишландию, стал на свежую память заносить в дневник историю Онисимова. И хотя в этот день предстояли интересные экскурсии, Челышев на телефонные звонки отвечал, что неважно себя чувствует и нынче полежит. Он строчил почти до вечера, исполняя, как он сам считал, свою обязанность перед потомством. Уже почти три десятилетия он, доменщик-ученый, ведет такие записи, им движет немеркнущее убеждение: довелось жить в великое время.
Пользуясь (но, думается, не злоупотребляя) своей авторской властью, скажу еще раз: этот мой роман-отчет вряд ли был бы задуман, — уже не говорю: написан, — если бы я не располагал таким человеческим документом, как дневник академика Челышева.
…Накануне вылета возвращавшейся на родину группы, Онисимов вечером собрал у себя отъезжавших. Скромнейший трезвенник, изгонявший спиртное, всю жизнь остававшийся таким, Александр Леонтьевич и здесь себе не изменил — ужин был подан без водки, без вина, даже без пива.
После ужина слушали патефонные пластинки. Одна за другой звучали в превосходном исполнении известные русские песни — «Стенька Разин», «Есть на Волге утес», «Дуб и рябина», «Подмосковные вечера». Среди гостей, как почти во всякой русской компании, нашелся голосистый искусник-запевала, молодой инженер-судостроитель. Постепенно выветрилось, исчезло стеснение. Онисимов в черном вечернем костюме присел на ступеньку небольшого возвышения, служившего здесь своего рода эстрадой, безмолвно слушал, смотрел на земляков. Рослый, носатый, светловолосый