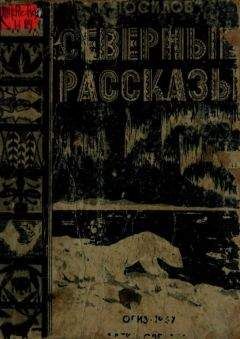Вечером барометр поднялся снова высоко, небо прочистилось, выглянули звезды, вспыхнуло северное сияние и, смотря на пролив, на заснувшее море, откуда даже не доносился шум волны, на горы и долину, казалось, что все по-старому, что все, что было за эти ужасные дни, был сон, мираж…
* * *
На другой день было совсем тихо. Пролив моря спал под неровным снежным покровом, как в обыкновенное время, лед смерзся за ночь и, казалось, не двинется до теплого лета, настолько стал толст и неподвижен.
Я пошел посмотреть пролив с того мыска, на котором я любовался вчера на движение льда с моря.
Лед был прикрыт уже снегом, ледяные торосы приняли формы гор, вдали на льду чернели самоеды, которые, вооружившись палками вместо ружей, выстроившись в ряд, подвигались навстречу ползущим тюленям из глубины пролива, которых они, замахиваясь, били по голове, как косцы на ледяном поле.
За проливом в зрительную трубу я рассмотрел несколько белых медведей; они желтыми точками бродили по белой скатерти снегов, отыскивая тоже тюленей. Туда же на лед бежали и вечно голодные песцы за этой добычей.
Я иду по смерзшему льду пролива, прикрытому вчерашним снегом, местами видна водоросль, местами видны камни, сорванные вчера со скал, поднятые со дна пролива, и вдруг отскакиваю в сторону, так как наступил на что-то живое, скользкое. Смотрю — это нерпа. Она была уже занесена вся снегом, лежала под льдинкой и теперь смотрела на меня, замерзшая, с ободранной в кровь грудью, вся скорчившись, жалкая, и я пожалел, что ее побеспокоил, когда она, быть может, уже умирала, засыпая под холодным ветром, прикрытая белым пушистым снегом.
Через несколько шагов я нагоняю другую, пересекая кровавый след, который она оставляет на льду. Мне хочется ее посмотреть, я забегаю вперед и вдруг становлюсь перед нею и замахиваюсь на нее, чтобы она на меня не бросилась, чтобы она остановилась. Она с криком отбрасывается в сторону, прижимается в ужасе к льдине, втягивает голову, словно ожидая удара в толстую жирную шею, и смотрит мне прямо в глаза своими черными, светлыми глазами… я сажусь перед ней и смотрю на нее. Мне хочется ее унести к дому, спустить в какую-нибудь полынью, но это напрасно. Я вижу, как обледенели ее катры, я вижу, как ободрана ее грудь, все брюшко, на котором она ползла, быть может, десять верст, я вижу, как у ней изорваны в кровь катры, которыми она движется. Какая она жалкая, убитая, как она покорно ждет смерти… И я бросаюсь от нее прочь, не оборачиваясь, не оглядываясь.
Я возвращаюсь на берег, долго брожу по нему, подбирая выброшенную рыбу, водоросли, раковины для коллекций, и вижу, как тут же, вдоль берега, не особенно стесняясь меня, бегают белые плутоватые песцы, подбирая то, что море и буря послали им в подарок за долгие зимние голодные дни.
Тут же сидят и белые совы, слетевшиеся к берегу с острова на тризну морских животных.
Затем я пошел к ближайшему склону горы, которая в эту бурю совсем оголилась от снега и приняла вид такой же, как в летнее время.
Мне хотелось там, в россыпях камней, в склонах горы, посмотреть, как дозрели под снегом засыпанные им рано осенью растения, собрать их семена, взглянуть, как устроилась там песцовая мышь, и полюбоваться растениями, которые порой прекрасно сохраняются под снегом со всеми признаками зелени и цветов даже зимою.
Но меня там ожидало другое.
Под обрывом скалы, на склоне горы, на оставшемся сугробе снега, лежало до сотни трупов замерзших птиц. Это были по преимуществу чистики, которые в летнее время десятками тысяч населяют прибрежные скалы этого острова и улетают на зимнее время на юг, где открыто море, — к берегам Норвегии и Ирландии. Откуда они появились в бурю у берегов полярного, далеко от мест их зимовки, острова, когда обыкновенный их прилет никогда не бывает раньше первых чисел апреля, можно было объяснить только той же бурей.
Она сорвала их там с поверхности моря, с высоких скал, с тех островов, где они проводят зиму, хотя эти острова были не меньше, как за тысячу миль от Новой Земли, и принесла их сюда вместе с собой, так как они с своими пингвиновыми маленькими крылышками не могли бороться против ветра. Здесь они на первое время бури, быть может, укрылись в проливе, заливах, бухтах, но сбитые бурей, не имея сил держаться на воде, вероятно, снялись и полетели разыскивать новое место и, приняв чернеющиеся скалы гор за полыньи моря, с размаху налетели на них и, разбившись, попадали мертвыми на снежные сугробы. Это было видно по изуродованным формам тела, растрепанным перьям и ранам.
Другие же, оставшись при столкновении живыми, не имея сил подняться в затишье при помощи маленьких крылышек, искали спасения в щелях камней, где застыли от холода.
Между ними я нашел пару ледяных уток, несколько приставших гаг и одного миниатюрного жителя земли Франца-Иосифа, милого гостя Новой Земли, люрика, прилетевшего сюда, где все же посветлее, чем там, под самым полюсом, в полярные ночи.
Вечером возвратились, все в крови с ног до головы, пахнувшие кровью, забрызганные мозгом тюленей, наши самоеды-промышленники. Они были по-своему даже счастливы: они избили за этот день до восьмисот тюленей. Они ходили их бить и на другой день и тоже избили такое количество.
Даже маленькие подростки и те ходили на льды бить тюленей; но море на другой день подняло волны, они расшатали лед, тронули с места, а горный ветерок оторвал его от берегов и вынес в море.
Тюлень снова юркнул в воду, дельфин вышел на простор океана, зимующая птица засвистала, запела на открытой воде, и на третий день у нашего берега зашепталась снова тихая волна.
Когда мне бывало скучно на Новой Земле, когда меня угнетало одиночество, я отправлялся поскорее на тихий ближайший остров, чтобы рассеять свое грустное настроение среди веселого говора птиц и их своеобразной, шумной жизни.
Этот остров был недалеко от моей колонии, и когда с моря дул легкий ветер, когда тихо было на нашем полярном острове, до нас часто доносились издали голоса птиц, и казалось тогда, что это галдит, шумит народ в деревне, покрывая общие голоса громкими взрывами смеха…
Эти голоса доносились с Птичьего острова, который недаром самоеды прозвали „птичьим базаром“.
Обыкновенно я отправлялся на Птичий остров в сопровождении моего верного пса Яхурбета.
Столкнешь легкую морскую шлюпку, поставишь на нее мачту и парус, посадишь пса, положишь ружье, фотографический аппарат и припасы, оттолкнешься от берега, и уже попутный ветерок несет тебя, слабо колыхая по волнам.
Отъедешь версту, две, войдешь в широкий залив острова и уже тут, на воде, первые вестники этого острова — белогрудые, плотные гагарки. Чем дальше, тем больше встречаются они группами, — и не боятся редкого здесь человека, а спокойно плавают тут же, почти у самого борта, с любопытством вытягивая свою короткую с острым носом головку.
Хлопнешь, бывало, в ладоши, они даже не шелохнутся, крикнешь им — „берегись“, — они только торопливо отплывут сажень от носа лодки и снова спокойно закачаются на волнах, снова заныряют в прозрачной чистой воде.
Но вот и остров показался вдали на просторе синего моря, вот и ясно уже доносятся тысячи птичьих голосов. Громадная, расколотая поперек, высокая, сажен в десять, скала; внизу, во впадинах, еще лежат невытаявшие льдины, и весь остров, исключая зеленой вершины, весь обрыв его, скала еще издали белеют белобрюхими гагарками, которые то снимаются тучами и падают на тихую воду, то поднимаются и садятся на эту скалу.
Еще немного пути, и мы уже совсем окружены птицами. Еще немного времени, и в воздухе уже слышны только одни их голоса. Громкие, зычные голоса, которыми они созывают друг друга. Но голосов острова еще плохо слышно: слышно только, как порою доносится гул, словно, действительно, там собралась масса народа, как на торжище.
Но вот, там, с острова, завидели приближающегося человека, и видно уже, как летят к нам белые клуши, и слышен зычный крик морской чайки, которым она так отличается в тысяче птичьих голосов, и птицы тучами поднимаются в воздухе и снова садятся на остров.
Теперь над нами кружится десяток белых клуш, — они встревожены, что завидели в лодке собаку, и то падают стремглав вниз, готовые ее задеть крылом, то снова поднимаются и кружатся над самой лодкой, свистя и размахивая в воздухе громадными своими крыльями.
Но вот и самый Птичий остров с его миллионным птичьим населением. Темные скалы покрыты сплошь птицами, с их выступов, с каждого камешка на нас смотрят тысячи черных глазков. Видимо, птицы немного встревожены нами, но еще не летят, словно дожидаются чего-го.
Я салютую им выстрелом штуцера, и они, как туча, проносятся над моей головой со свистом крыльев, а между тем, на скалах будто их и не убыло, так много тут этой шумной, говорливой птицы.