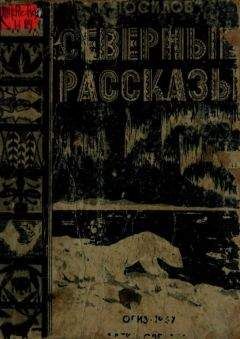Берег, действительно, опасен: вы видите, как детеныша высоко подбрасывает волна; вы видите, как она грозит его бросить на камни; но его во время спасают взрослые птицы, и через минуту, он уже далеко отплывает от скалы и целая орава крикливых гагарок начинает над ним хлопотать, то схватывая его за голову и заставляя его нырять, то просто падая на него, чтобы он от испуга поскорее скрылся в воду. И детеныш, маленький, как комочек пуху, беспрестанно ныряет в воде и уплывает дальше и дальше в море, сопровождаемый криком больших.
И через полчаса малютка уже далеко в открытом море: он надолго покидает родной остров, уплывая все дальше и дальше, и долго еще видно, как его окружает толпа взрослых птиц; долго еще видно издали, как они ведут его в открытое море…
Как там, в открытом, порою страшно бурном море, пробиваются в первое время эти маленькие детеныши — неизвестно; но моряки нам не раз передавали трогательные рассказы защиты их от непогоды взрослыми гагарками, которые во время бури старались их держать около себя и даже, случалось, принимали их к себе на спины, где птенцы сидели, уткнувшись в перышки гагары, еле-еле удерживаясь, когда хлестали их страшные волны.
Можно себе представить, какую суровую школу проходили эти птенцы, со сколькими невзгодами и опасностями приходилось им бороться в детстве. Но зато какими сильными вырастали они! Мне не раз самому приходилось удивляться выносливости этих сильных птиц, когда они целыми днями в бурю держались на поверхности воды.
Но эти гагарки, эти пингвины, эти чайки поморки — далеко не все население „птичьего базара“. Там есть любопытные уголки и с другими птицами, на этом же острове была одна скала, которую прозвали самоеды „скалою топориков“.
И, действительно, тут жили птицы особой породы пингвинов-гагарок, с оригинальным, красноватым, толстым носом, который походит на топорик, и с таким красивым оперением, которое сразу ставит эту птицу выше всех других пород пингвинов.
Меньше ростом обыкновенной гагарки, почти стоящая на коротеньких хвостах, с желтоватыми голыми лапками, с белой грудью и с сизой окраскою головки, на которую словно надета черная шапочка, и с оригинальным, широким, плоским носом, украшенным светлыми и желтыми бороздками, эта птица-топорик всегда привлекала мое внимание.
Я долго засиживался, долго следил, как птица-топорик, сначала спугнутая, кружилась около меня; я даже, случалось, прятался от нее между кочками и камнями со своим фотографическим аппаратом, чтобы дождаться того времени, когда она снова выстроится в ряды где-нибудь поблизости на выступе камня и снова займется своим делом, — красивая в своем наряде и оригинальная по своим милым движениям, — чтобы наблюдать ее, уловить минуты ее свободной мирной жизни.
Эти милые птички-топорики так же, как и гагарки, питаются рыбою; детенышей своих они высиживают в глубоких расселинах камней и скал.
Вероятно потому, что для их гнезда требовались каменные трещины, топорики и жили в такой части этого маленького островка, которая более всего подвергалась разрушению моря.
Это была интересная скала, где камни уже наполовину обрушились, подмытые волнением, где скала уже наполовину осела и повалилась в море, образуя в одном месте такой красивый сквозной грот, сквозь который всегда так и хотелось проехать на шлюпке, если бы только не было опасности от волнения и подводных камней.
Тут же рядом, в той же скале, в таких же трещинах, жили зимовщики этого острова, — черные летом и белые зимою, — чистики.
Это была совсем смирная птичка, которая, казалось, даже любила человека.
Черная, с острым, как у гагарки, носиком, с красноватыми лапками и белым пятном на крыле, она много меньше топорика. Ее можно было всегда встретить и на море, и на этом острове, и даже у самого берега, где она привольно плавала, всегда что-то жалобно посвистывая, словно жалуясь на что-то.
Птичку эту особенно интересно было наблюдать зимою на полыньях полуоткрытого моря. Только что, бывало, покажешься там на маленькой лодочке, выехав в полярные сумерки в море, как, откуда ни возьмись, уже чистик тут и с жалобным писком кружится в воздухе около лодочки подплывает к ней, весь рябчатый, с красным красивым клювом, и ныряет, пищит, гоняется за лодочкой, словно жалуясь человеку на долгую, суровую зиму и на свое холодное в скале гнездо, где он должен скрываться в продолжительные и убийственно долгие зимние бури.
Но теперь, летом, он уже в другом наряде, — весь черный, как и его скала из шифера; только красный клюв и лапки еще напоминают его зимнюю окраску.
Этот чистик тоже живет в скалах подобно топорику, и тоже, как и он, кладет там яички, выводит детенышей, которые после улетают и уплывают в море.
На этом же птичьем острове есть и еще несколько любопытных, безобидных жителей, которые гнездятся среди общей массы гагарок.
Это несколько пород чаек, из которых самой любопытной была для меня трехпалая, маленькая, с черной головкой, чайка, которая вила, как ласточка, гнезда на самых неприступных обрывах. Эти обрывы, эти отвесные скалы с рядами прилепленных гнездышек, эти бесшумно летающие сизые чайки, бывало, также меня увлекали, как и колонии топориков, и я просиживал там целыми часами.
Но это уже было не то оживление, как у гагарок, это уже была другая, более тихая, мирная жизнь.
Такова была картина этого птичьего острова, которой я так часто любовался. Но не все приезжают сюда только ради наблюдения и любопытства: большею частью сюда является человек за промыслом.
На этот птичий остров приплывали семействами за промыслом самоеды. И летом, и ранней весной, и поздней осенью они являлись сюда за яйцами и птицей. Это был их птичий двор. Они приплывали сюда со своими большими лодками и выходили на остров с веревками и мешками.
И птица уже, бывало, издали, заслышав человека, летела с криком, поднимаясь высоко в воздухе с неистовым криком. Самоеды ловко взбирались на скалы для сбора яиц, повисши на веревках вдоль скал над уступами.
Через какой-нибудь час-два уже мешки самоедов наполнены убитыми птицами, корзины полны яйцами, и самоеды отправляются на свои лодки и плывут в свою колонию.
После человека разве только белый песец еще потревожит эту мирную жизнь. Песец забирается сюда обыкновенно еще ранней весной по льду, в верном расчете, что ему можно тут смело вывести и прокормить свое многочисленное и прожорливое семейство.
Я не раз, сидя на обрыве птичьего острова, наблюдал эти вылазки маленького белого хищника. Он крался, как настоящий вор, полз к замеченному низкому гнездышку и подолгу выжидал, запавши за каким-нибудь камешком, чтобы броситься, когда птица слетит с гнезда. В один ловкий прыжок он хватал ее пестрое яичко и нес его к детям, которые уже в нетерпении давно выбегают на берег из своей норы и настораживают длинные ушки, прислушиваясь, удастся ли хищничество их матери. Далеко встречают они мать, мурлычат, виляют хвостом, следуя за ней в свою нору, чтобы потом съесть добычу и снова выбежать за маткой.
Если вместо яйца попала в зубы песца сама птица, то нужно было видеть, как маленькие песцы рвали ее с дракой у своей норы и пускали пух и перья по ветру.
Раннею весною в апреле, а иногда и в мае, море у этого острова еще не вскрывается от льда. Птица, тучами летевшая на остров в безветренную погоду, при малейшем испуге прямо валится на лед, и так как крылья у нее короткие и слабые, то она и ждет ветра, который поможет ей подняться на воздух.
Вот тут-то и пользуются маленькие белые хищники, явно нападая на беспомощную птицу.
Я видал один раз такие разбои и, когда издали слышал плачущие голоса этой птицы, обыкновенно спешил туда на выручку.
Песцы, собравшись по нескольку штук, травили какую-нибудь отсталую от стада гагарку, подкрадывались к ней, быстро бросались, наскакивали на нее и рвали ее за крылышки. Сначала гагарка пробовала отбиться от них своим острым клювом и лапами, в крайнем случае бросалась на спинку и отбивалась лапами, но они ее преследовали, и вот после долгой борьбы птичка ослабевала, и тут-то зубы хищника впивались в ее шейку.
Порой так погибали десятки и даже сотни птиц. Порой у островка стояли такие душу раздирающие крики, что, казалось, стонет где-то и зовет на помощь ребенок. И я всегда спешил к бедным птицам со своею собакой, которая быстро разгоняла хищников.
Такова жизнь этого птичьего острова, называемого самоедами „птичьим базаром“, куда я так любил ездить в минуты горя или раздумья.
После каждой такой поездки на остров, обыкновенно, долго еще стоял в моих ушах крик птицы, и в глазах мелькали фигуры их, сидящие и летающие, и после того мне уже не было так скучно в моем одиночестве, словно я побывал где-нибудь в обществе или повидался с близкими людьми.