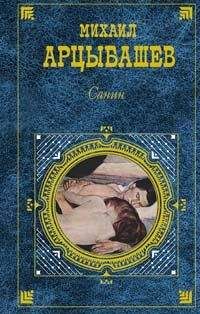– Это, право, неприятный тон! – упрямым и угрожающим тоном ответил он.
– Это мой обычный тон, – со странным выражением досады и желания успокоить сказал Санин.
– Он не всегда уместен, – продолжал Юрий, невольно повышая голос и делая его крикливым. – Я не знаю, откуда у вас этот апломб…
– Вероятно, от сознания, что я умнее вас, – уже спокойнее ответил Санин.
Весь вздрогнув от головы до ног, как натянувшаяся струна, Юрий мгновенно остановился.
– Послушайте! – зазвенел его голос, и хотя не видно было лица, почувствовалось, что он побледнел.
– Не сердитесь, – ласково остановил Санин. – Я не хочу обижать вас, я только выразил свое искреннее мнение… Такого же мнения вы обо мне, фон Дейце, о нас обоих и так далее… Это естественно…
Голос Санина был так искренен и ласков, что как-то странно было продолжать кричать, и Юрий на минуту замолчал. Фон Дейц, очевидно страдая за него, молча звенел шпорами и затрудненно дышал.
– Но я не говорю вам этого… – пробормотал Юрий.
– И напрасно… Я вот слушал ваш спор, и в каждом слове у вас и явно, и обидно звучало то же самое… Дело только в форме. Я говорю то, что думаю, а вы говорите не то, что думаете… И это совсем не интересно. Если бы мы были искреннее, было бы гораздо занимательнее!
Фон Дейц вдруг визгливо засмеялся.
– Это оригинально! – захлебываясь от восторга, проговорил он.
Юрий молчал. Злоба его улеглась, и стало даже как будто весело, но было неприятно, что он все-таки уступил и не хотел показать этого.
– Только это было бы чересчур просто! – переставая смеяться, важно заявил фон Дейц.
– А вам непременно хочется, чтобы было запутанно и сложно? – спросил Санин.
Фон Дейц пожал плечами и задумался.
Бульвар миновали, и в пустых, оголенных улицах окраины стало светлее. Сухие доски тротуара явственно забелели на черной земле, а вверху открылось до странности широкое, клубящееся тучами и сверкающее редкими звездами бледное небо.
– Сюда, – сказал фон Дейц и, отворив низенькую калитку, провалился куда-то вниз.
Сейчас же где-то залаяла старая охрипшая собака, и кто-то закричал с крыльца:
– Султан, тубо!
Открылся огромный запустелый двор. В конце его чернела слепая громада паровой мельницы, с тонкой черной трубой, печально и одиноко устремившейся к далеким тучам, а вокруг шли черные амбары, и нигде не было деревьев, кроме палисадника под окнами флигеля. Там было открыто окно, и полоса яркого света среди тусклой тьмы пронизывала прозрачно-зеленые листья.
– Унылое место! – сказал Санин.
– А мельница давно не работает? – спросил Юрий.
– О да… давно стала, – ответил фон Дейц и, мимоходом заглянув в освещенное окно, сказал необычайно довольным голосом: – Ого!.. Народу набралось порядочно…
Юрий и Санин тоже заглянули через палисадник. В светлом веселом четырехугольнике двигались черные головы и плавал синий табачный дым. Кто-то высунулся из окна в темноту, и темный, широкоплечий, с курчавой головой, окруженной сиянием волос, заслонил все.
– Кто там? – громко спросил он.
– Свои, – ответил Юрий.
Они поднялись на крыльцо и наткнулись на человека, сейчас же начавшего дружелюбно и поспешно пожимать им руки.
– А я уже думал, вы не придете! – радостно заговорил он с сильным еврейским акцентом.
– Соловейчик. Санин… – сказал фон Дейц, знакомя их и дружелюбно пожимая холодную и чересчур трепетную ладонь невидимого Соловейчика.
Соловейчик смущенно и робко хихикал.
– Очень рад… Я так много о вас слышал и, знаете, это очень… – бестолково говорил он, пятясь задом и не переставая пожимать руку Санина.
Спиной он толкнул Юрия и наступил на ногу фон Дейцу.
– Простите меня, Яков Адольфович! – вскрикнул он, покидая Санина и цепляясь за фон Дейца.
И оттого они все запутались в темных сенях так, что долго никто не мог найти ни дверей, ни друг друга.
В передней, на гвоздях, вбитых нарочно для этого вечера аккуратным Соловейчиком, висели шляпы и фуражки, а все окно было уставлено плотной массой темно-зеленых пивных бутылок. И передняя уже была полна табачного дыму.
На свету Соловейчик оказался молоденьким евреем, черноглазым, курчавым, с красивым худым лицом и порчеными зубками, ежеминутно осклабляющимися в угодливо робкой улыбке.
Вошедших встретили хором оживленных и ярких голосов.
Юрий прежде всего увидел Карсавину, сидевшую на подоконнике, и все сразу приняло для него особый радостный вид, точно не сходка в душной накуренной комнате, а весенняя пирушка на поляне в лесу.
Карсавина улыбалась ему радостно и смущенно.
– Ну, господа… теперь, кажется, все в сборе? – стараясь говорить громко и весело, но болезненно и неверно напрягая слабый голос, закричал Соловейчик, странно жестикулируя руками. – Извините, Юрий Николаевич, я вас, кажется, все толкаю… – весь изогнувшись и осклабляя зубы, перебил он сам себя.
– Ничего, – добродушно придержал его за руку Юрий.
– Не все, да черт с ними! – отозвался полный и красивый студент, и по его пухлому, но сильному купеческому голосу сразу стало слышно уверенного и привычного человека.
Соловейчик прыгнул к столу и вдруг зазвонил в маленький колокольчик, радостно и хитро улыбаясь своей выдумке, которую он готовил еще с утра.
– Э, оставьте! – рассердился пухлый студент. – Вечно вы со всякими глупостями!.. Совершенно излишняя торжественность!
– Я ничего, я так… – смущенно захихикал Соловейчик и сунул колокольчик в карман.
– Я думаю, стол можно поставить на середину комнаты, – сказал полный студент.
– Сейчас, я… – опять заторопился Соловейчик и с бессильным напряжением ухватился за край стола.
– Лампу… лампу не уроните! – крикнула Дубова.
– Ах, да не суйтесь же вы куда не просят! – с досадой стукнул кулаком по колену полный студент.
– Давайте я вам помогу, – предложил Санин.
– Пожалуйста, – так торопливо выговорил Соловейчик, что у него вышло «поджалушта!».
Санин выдвинул стол на середину комнаты, и пока он это делал, все почему-то внимательно смотрели на его спину и плечи, легко ходившие под тонкой рубахой.
– Ну-с, Гожиенко, вам, как инициатору, следует сказать вступительную речь, – сказала бледная бесцветная Дубова, и по ее умным некрасивым глазам трудно было понять, серьезно она говорит или подсмеивается над полным студентом.
– Господа, – возвышая голос, заговорил Гожиенко сдобным, но приятным баритоном, – уже все, конечно, знают, для чего собрались, и потому можно обойтись без вступлений…
– Я-то, собственно, не знаю, зачем собрался, но пусть так, – улыбаясь, отозвался Санин. – Говорили, тут пиво будет.
Гожиенко небрежно взглянул на него через лампу и продолжал:
– Цель нашего кружка: путем взаимного чтения, обсуждения прочитанного и самостоятельного реферирования…
– Как это «взаимного» чтения? – спросила Дубова, и опять нельзя было понять, серьезно или насмехаясь она спрашивает.
Полный Гожиенко чуть-чуть покраснел.
– Я хотел сказать «совместного» чтения… Так вот, цель нашего кружка, таким образом, попутно способствуя развитию своих членов, выяснить индивидуальные взгляды и способствовать возникновению в нашем городе партийного кружка с эсдековской программой…
– Ага-а! – протянул Иванов и комически почесал затылок.
– Но это впоследствии… сначала мы не будем ставить себе таких широких…
– Или узких, – подсказала своим странным тоном Дубова.
– …задач, – притворяясь, что не слышит, продолжал полный Гожиенко, – а начнем с выработки программы чтений, чему я и предлагаю посвятить сегодняшнее собрание.
– Соловейчик, а ваши рабочие придут? – спросила Дубова.
– А как же! – подскочил к ней Соловейчик, сорвавшись с места, точно его укусили. – За ними же пошли!
– Соловейчик, не визжите! – перебил Гожиенко.
– Да они уже идут, – отозвался Шафров серьезно и внимательно, даже со священнодействующим выражением слушавший, что говорит Гожиенко.
За окном послышался скрип калитки и опять хриплый лай собаки.
– Идут, – выкрикнул Соловейчик с необъяснимым восторгом и порывисто выскочил из комнаты.
– Су-лтан… ту-бо-о! – пронзительно закричал он на крыльце.
Послышались тяжелые шаги, голоса и кашель. Вошел низенький, очень похожий на Гожиенко, но чернявый и некрасивый студент-технолог, а за ним смущенно и неловко прошли два человека с черными руками в пиджаках поверх грязных красных рубах. Один был очень высокий и очень худой, с безусым бескровным лицом, на котором многолетнее родовое недоедание, вечная забота и вечная злоба, затаенная в глубине сдавленной души, положили мрачную и бледную печать. Другой выглядел силачом, был широкоплеч, кудряв и красив и смотрел так, точно мужицкий парень, впервые попавший в городскую, чужую и еще смешную ему обстановку. За ними боком проскользнул Соловейчик.