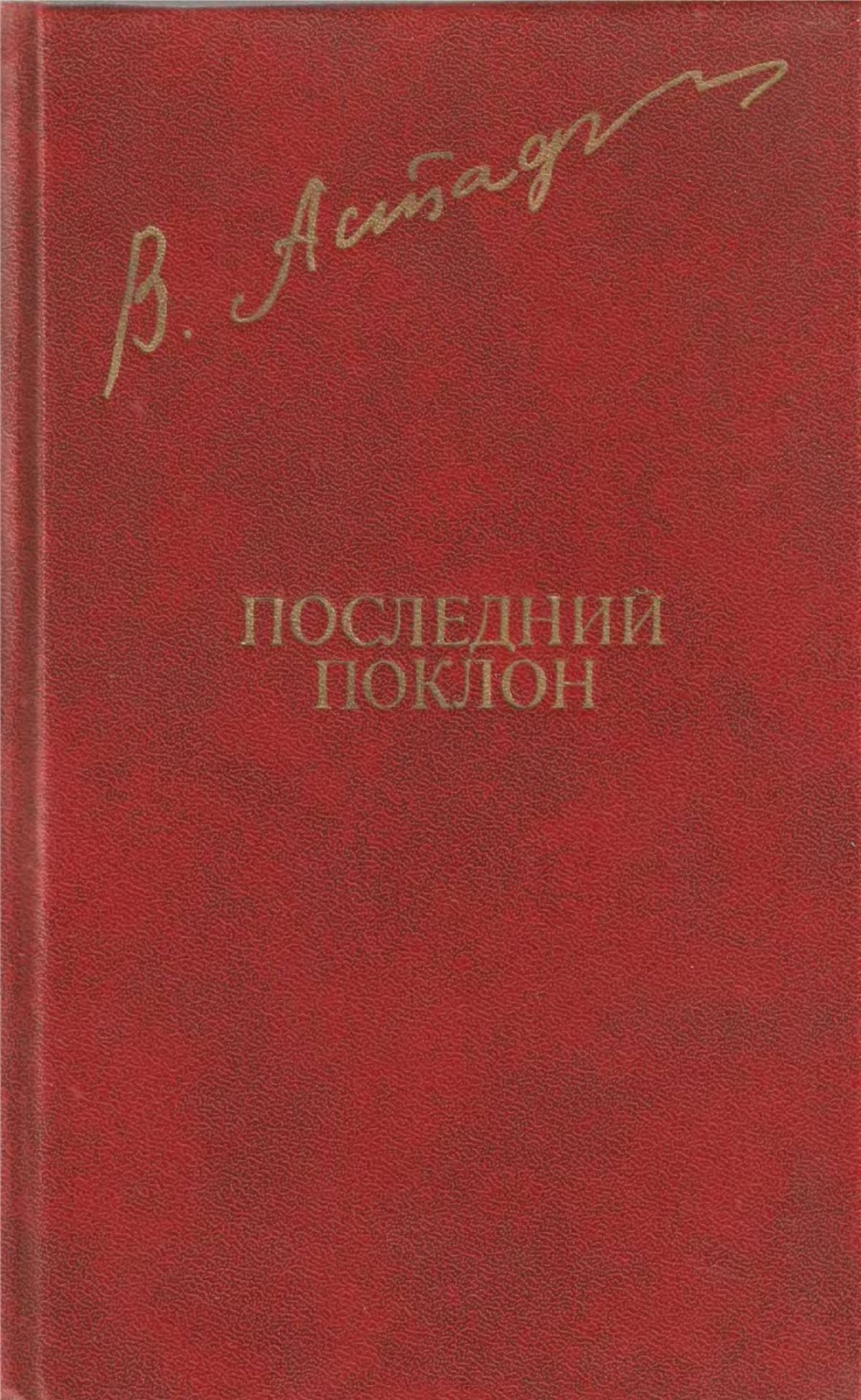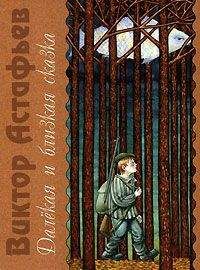не сломался прут. Отбросив переломившуюся прошлогоднюю талину, от которой и больно-то нисколько не было, она запричитала, выкашливая перехваченным сердцем:
— Да што за наказанье такое? Да за какие грехи на меня навязались кровопивцы?..
— В лодку идти, че ли?
Кеша уже не улыбался, Ксенофонт подмигивал мне, маячил, прыгай, дескать, скорее в лодку да ко мне поближе — на корме не достанут…
Но я, набычась, стоял на берегу.
— Иди лучше в лодку! Запорю! До смерти ведь запорю! — затопала ногами бабушка. — Х-хосподи! Вот дедушко-то родимый! Забей его… Забей… — Она сцапала меня за ухо и повлекла к лодке.
Не медля ни минуты, Ксенофонт оттолкнулся, лодку качнуло, бабушка осела, схватилась за борта. Развернулись, поплыли. Бабушка черпнула рукой за бортом, приложила сырую ладонь к губам.
— Налим где, Санька?
— Ой, забыл! Вот гадство, забыл!
— Поворачивайте назад! — потребовал я.
— Я те поверну! Я те поверну! Так поверну, что своих не узнаешь!..
— Поворачивайте лучше, а то всех перетоплю! — процедил сквозь зубы я со всем злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку.
— Сенофонт! — взмолилась бабушка. — Поворачивай, батюшко, поворачивай, родимой!.. Он ведь обернет лодку-то!.. Де-эдушко, дедушко вылитый… Сатана сатаной, как рассердится…
Ксенофонт ухмыльнулся и развернул лодку. Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни.
В одном бродне, в грязной и драной рубахе, в мокрых штанах, пошлепал я по берегу, по глине.
— Красавец какой! — сказала бабушка. — Тебе иш-шо за обуток будет! Новые почти бродни уходил…
Налима я нашел в воде. Санька забил его и продел в жабру таловую ветку с сучком. На ветке я и приволок налима.
— Налимище-то! — принялся измываться надо мною Кеша, но я смазал ему рыбиной по морде, и он заутирался рукавом: — Че размахался-то? За ним еще приплыли, как за нобрым!..
— Как поселенца делить будете — повдоль или поперек? — Бабушка тоже насмехается, отошла, отдышалась.
— Разделим…
Переплыли реку в тягостном молчаний. Вышли из лодки. Я потребовал у Саньки ножик, разрезал налима на три части. Голову мне, поскольку я оказался в конце концов главным ответчиком за все. Середину — Саньке, раз он вытащил налима, хвост Алешке — он только ныл, бабу звал, и никакого от него толку в промысле не было.
Бабушка сварила уху из двух кусочков налима и, не знаю уж, нарочно или с расстройства, пересолила ее. Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алешка несмело звал бабушку хлебать с нами — в нашем доме не принято было есть что-то по отдельности, да бабушка сердито замахала на нас обеими руками:
— Понеси вас лешаки с налимом вашим!
Вечером прибыл дедушка. Он пилил в лесу швырок — мужики наши сбивались в артели и заготавливали на продажу дрова веснами, пока было пустое время до пахоты и сева. Обо всех наших злодеяниях было ему доложено с подробностями и даже с прибавлениями.
— Чего же ты. сводишь людей-то с ума? — укоризненно сказал дед. — Шутки тебе с водой?
Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелей бабушкиной порки. Но скоро деду, как всегда, жалко меня стало, и, дождавшись, чтоб бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил:
— Лодку-то как отпустили?
— Таймень опрокинул.
— Так уж и таймень?
— Не сойти мне с этого места!..
— Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал.
— А че тогда бабушка талдычит: платить за лодку, платить за лодку!..
— Пужат. Ты знай помалкивай.
Дед потолковал еще со мной о том о сем, подымил табаком, затем протяжно вздохнул и повел меня в хибарку бобыля Ксенофонта.
— Вот тебе соловей-разбойник. Опекунствуй на рыбалке. До смерти он теперь пропащий человек. Пуш-шай с тобой на реке болтается — хоть душа на месте будет…
Дед и Ксенофонт закурили, как бы порешив дело, и сидели, покашливая, изредка обмениваясь вялыми и неинтересными словами, вроде таких: «Пилы ныне дерьмо, не пилы, зуб то крошится, то вязнет…» — «Н-на, разживетесь вы на этом швырке…» — «Разживемся. А тут ишшо соку березового опилися, пообслабели. Едва ноги волочили…» — «Дак ить не маленьки! Посивели в лесу-то…» — «Посиветь-то посивели, да не поумцели, вишь…»
Старая, полутемная избушка наполнялась махорочным дымом, мухи в нем вязли. Я примостился возле кособокого, некрашеного окна, ловил на нем мух и запихивал их в спичечный коробок — про запас — летом на ельца и хариуса наживка. Ловил я мух, слушал, не заговорят ли о чем еще братья, но они уже выговорились и помалкивали, смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, за заплотами и огородами, и не верил своей участи. Уж с Ксенофонтом-то мы половим рыбки! Уж потаскаем налимчиков! Может, и тайменя того сыщем? Ну, не его, так другого. Мухи все вязли в дыме, угорело тыкались в углах, лепились на стекло — отдышаться.
Вот жизнь какая извилистая! И несчастья, и счастье — все в ней об руку, все рядом ходит…
ДЯДЯ ФИЛИПП — СУДОВОЙ МЕХАНИК
Из бабушкиных гостей мне больше других памятен дядя Филипп — судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его «поднял» и пустил «на воду». Оставшись на суше, сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки Васени, которой негде было приютить гостя и потчевать нечем, дядя Филипп заезжал перво-наперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал с судном на севере, он являлся гостить в село вместе со своей женой теткой Дуней, и… коли принес бог гостя, стало быть, и хозяевам пир.
Бабушка, всплеснув руками, выбегала на крыльцо, да так проворно, что забывала прихлопнуть дверь. На крыльце раздавались многократные охи, ахи, чмоканье, в момент возникшие женские всхлипы, бабушка на ходу напевала, что якобы точь-в-точь оправдались ее наблюденья и предположенья — вечор куры передрались и чья-то собака перед домом каталась — быть гостям, непременно быть! — порешила она, на всякий случай замесила квашонку и, как в воду глядела: квашонка-то к разу!
В сенках стокам стонали старые половицы под сапогами дяди Филиппа, проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем.
— Растешь? — спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком, и опускал на пол с разрешением: — Ну, расти!
Он небрежно кидал на мою голову картуз с громадной «капустой», горящей невиданным золотоцветом, и поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался спертым воздухом, в котором смешались пот, одеколон, запах головы.
Все смеялись. Я осторожно щупал «капусту» и почтительно возвращал великолепный картуз