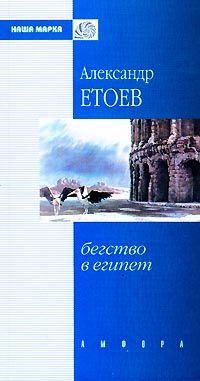тебя не любила. Я его любила, а не тебя.
Ах ты так, говорит он ей. Я его не убивал, видит бог. Но сейчас, восстань он если из пепла, я прикончил бы его, как собаку, прямо у тебя на глазах. Этим вот самым скальпелем, которым анатомирую по живому. И он чем-то там забрякал в кармане. Наконец, говорит, я понял. И теперь, когда с любовью покончено, тобой будет управлять страх.
Тут он достаёт из кармана круглую коробочку вроде пудреницы и сыплет ей на голову порошок непонятного голубого цвета. Она падает ему на плечо и трясётся, будто ей холодно. Я подумал, тёте конец, отравил он вашу соседку. Ну а он ей говорит тихим голосом, мол, даю тебе сроку сутки. Если не подашь мне на блюдечке двух сопливых недоростков-соседей, я тебя поджарю на сковородке и скормлю своим подопытным крысам.
Шкипидаров остановился.
После его рассказа воздух сделался колючим, как стекловата, небо низким, будто нёбо кита, а из сетки трещин на тротуаре вдруг повеяло кладбищенским холодом.
– Значит, продала нас Сопелкина. На хирургические опыты над людьми. Этому её живорезу.
Щелчков круглым носком ботинка нарисовал на асфальте крест.
– Интересно, а зачем человечеству какая-то искусственная пиявка? – Шкипидаров наморщил лоб. – У нас на даче этой радости пруд пруди.
– То ж учёные… – ответил Щелчков. – Они же все по-своему дуремары.
Глава шестнадцатая «Дайте мне сто сорок будильников, и я построю машину времени!»
– Скальпелем ещё ничего, – час спустя рассказывал Шкипидаров; мы сидели в кузове пятитонки, вжавшись спинами в её занозистые борта. – Вот недавно на Васильевском случай был: разоблачили в школе банду преподавателей. Представляете, в кабинете литературы они устроили камеру пыток, с помощью заводной челюсти, вставленной в бюст Макаренко, насмерть гробили двоечников и троечников. Не выучил стихотворение «На смерть поэта», тебя – хвать и суют под челюсть. Сделал две ошибки в диктанте, не умножил правильно два на два – хнычь не хнычь, полезай туда же. Замучивали практически подчистую. Сперва палец тебе оттяпают, потом руку, потом другую. Оставляли только мелкую ерунду – прыщ на шее или, там, бородавку.
Шкипидаров облизнулся и сделал паузу. Подмигнул знакомому воробью, пролетавшему над нашими головами, и продолжил свою страшную быль:
– А узнали об этом просто. Ведь у них, что ни четверть, одни отличники. В школе абсолютная успеваемость. Милиция, конечно, заинтересовалась – что это за школа такая, в которой нету ни одного троечника. Не бывает, мол, таких школ. Устроили, короче, облаву, врываются с пистолетами в кабинет – бах! бабах! – это учителя отстреливаются. Милиционеры им: «Руки вверх!», преподаватели прыг в окно, а там по ним из пистолета – бабах! Которых, в общем, сразу перекокошили, которых посадили в тюрьму, челюсть сдали в Музей милиции, кабинет литературы закрыли…
– Чушь собачья, – сказал Щелчков. – Ты соври ещё, что у них в столовой продавали пирожки с человечиной, приготовленной из тех самых двоечников.
– На что спорим? – дёрнулся Шкипидаров, протягивая руку для спора. – Дядя Витя, двоюродный мамин брат, знает лично одного человека, так у него, у этого человека, есть знакомый, у которого учился в той школе соседский сын. Он безрукий, этот соседский сын, ему руку по ошибке отрезали, обознались, думали, что он троечник. А он отличник, поэтому и живым оставили, вовремя остановили свой агрегат.
– Не буду я с тобой спорить, неинтересно. – Щелчков хлопнул Шкипидарова по руке, показывая, что спор окончен. – Может, нам уехать из города? – Он с надеждой посмотрел на меня. – У крёстного дача под Сестрорецком.
– А родителям что скажем, подумал? А в школе? – Я отмахнулся. – Нет, это не вариант.
Я вытащил на свет коробок. Звёзды на этикетке дрогнули, в иллюминаторе расцвела улыбка. Со времени происшествия на Покровке прошло уже часа полтора, а он всё грелся в моём кармане и не думал сбегать, как прежде.
Меня посетила мысль – дурацкая, но кто знает?
– Слушай! – сказал я вдруг. – Каждый раз, когда мы вляпываемся в какую-нибудь историю, почему-то появляется коробок. И всякий раз, когда он появляется, почему-то всё улаживается само собой.
– Не верю я в эти фокусы, – пробурчал Щелчков. – Ты ещё свечку перед иконой поставь, чтобы Боженька на голову этому Севастьянову кирпич сбросил.
– Религия – дурман для народа, – раздался неподалёку голос.
Мы выставили головы за борт. Рядом с кузовом стоял дядя Коля Ёжиков и сморщенной коричневой тряпочкой надраивал свой древний свисток. Сторожевая собака Вовка развалилась возле дяди-Колиных ног и лениво лизала левый дяди-Колин полуботинок.
Дядя Коля сощурился. Он увидел у меня коробок.
– Никак курите? – спросил дядя Коля, хмурясь. – Вы же мне всю базу спалите! Здесь бензин, горючие материалы, ветошь, смазка, дерево, только чиркни! Да меня ж начальство без соли съест, если тут хоть что-нибудь, да убудет. Даже эта вот ненужная тряпочка.
Дядя Коля расправил тряпочку, ту, которой драил свисток, и убрал её в нагрудный карман.
– Что вы, дядя Коля, – сказал Щелчков, – мы не курим, мы в коробок играем. На щелбаны. – И чтобы дядя Коля не сомневался, громко щёлкнул Шкипидарова в лоб.
Дядя Коля опять сощурился и задумчиво поскрёб подбородок.
– Ну-ка дай-ка, – сказал он мне.
Я послушно протянул ему коробок.
С полминуты он вертел его перед носом, думал.
– А ведь где-то, – наконец сказал дядя Коля Ёжиков, – мне такая картиночка попадалась. Ну не эта, может, похожая…
Он ещё раз изучил этикетку и вернул коробок мне. Потом уселся на подножку автомобиля и поведал нам такую историю.
– Жил когда-то в нашем районе один мудрила. Про него даже в газете писали… этот… как там… на букву «фэ»… фельетон. Название было, помню, ещё смешное. Что-то там про будильники и машину времени. Так… минуточку… хе-хе-хе, вспомнил! «Дайте мне сто сорок будильников, и я построю машину времени!» Было это давно, лет десять назад. Называл себя чудак народным изобретателем – говорил, университетов мы не кончали, а всё сами, всё своими мозгами. Изобретал всякую дребедень вроде этой машины времени, а ещё он дрессировал животных – кошек, чижиков, дворняг, попугаев – и устраивал на улицах представленья. Он и срок-то не за то схлопотал, что