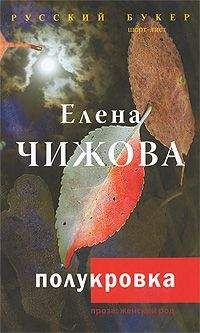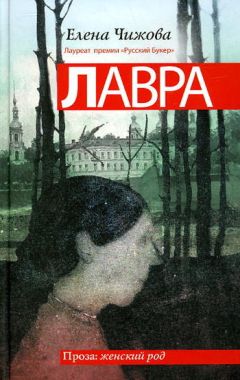Белые листы, за которые я, соскальзывая в полынью, цеплялась, лежали в надежном месте: Митя дал мне с собой, объяснив, что привез из Москвы, надо прочитать скорее, дали до следующей командировки. Командировка ожидалась недели через три - время было. Мне не хотелось начинать при муже. Распакуй я сверток, он бы непременно заинтересовался. Митина ярость, обличавшая попиков, говорила о том, что написанное в книге - не для церковных глаз.
На третьей неделе поста, когда муж в составе академической делегации отправился в поездку по монастырям, я развернула с опаской. Судя по Митиной яростной вспышке, на листах содержалось свидетельство, похожее на показания: обещал предоставить доказательства и теперь держит слово. Как заправский криминалист, я осмотрела пачку: титульного листа не было, отсутствовали и последующие три. Нумерация начиналась с пятого. Отвлекаясь на цифру, я вдруг подумала о пятом часе, когда, напуганная временем, вышла на набережную и взглянула на уличные часы.
То, что теперь лежало на моих руках, по внешнему виду разительно отличалось от бахромчатых. Те, убранные в толстые, шероховатые обложки, выглядели благородно. И нарушенные моим ножом, их листы сохраняли особую изысканность шрифта, принятого в европейских типографиях. Вычитанные опытным корректором, их слова радовали глаз. Подслеповатая машинописная копия, разложенная передо мною, в сравнении с ними гляделась сомнительно. Края листов, захватанные многими руками, были измяты и неровны. Возня в мастерской перемешала страницы, так что, прежде чем начать, я долго перекладывала - по порядку. Первых так и не нашлось. Расстроившись, я подумала, что безымянный владелец, доверившийся Мите, обвинит его в нерадивости. Перебирая листы, я выяснила, что отсутствует не только начало. То там, то здесь обнаруживались лакуны: где десять, где пятнадцать страниц - судя по нумерации. Разложив, как сумела, я подумала, что отсутствующие страницы похожи на вырванные клочки, а значит, вряд ли такие доказательства будут полными.
Странная и соблазнительная картина развертывалась перед моими глазами по мере того, как, забывая о времени, я углублялась в истоки того, что на страницах этой живой и страстной книги называлось церковным расколом. Страница за страницей я открывала для себя неведомый, канувший мир: моя жизнь, по случайному стечению обстоятельств легшая рядом, становилась мелководьем. Я видела море, высокие волны, ходившие от края до края, мертвую зыбь, подбивающую берег, и след моей ноги, в котором, как бывает на песчаной отмели после отлива, стояла, не успевшая уйти, морская вода. "Не пей из копытца, козленочком станешь", - детская, пугающая приговорка звучала в моей голове, когда, глотая лист за листом, я узнавала имена, некогда обожаемые и хулимые. Авторы, очевидцы событий, - постепенно, по отдельным ссылкам и сноскам, я поняла, что авторство принадлежит двум людям, - старались сохранять строгую объективность, - несколько раз они оговаривали это особо, - однако решающая роль отводилась не им. Главные участники событий сходили со страниц, как с полотен, чтобы, вмешиваясь в рассказ, не дать ему превратиться в сухое историческое повествование. Едва обращая внимание на пишущих, словно те, взявшие на себя труд, были обыкновенными секретарями-келейниками, участники событий отвечали друг другу через голову смерти, уже недостижимые для ее загребущих рук. Кощунственная мысль посетила меня: я подумала, так бывает в театре, когда автор, сделавший свое дело, остается за кулисами - умирает, чтобы возродиться в актерах. Вслушиваясь в голоса, звучавшие со сцены, я все больше увлекалась поворотами сюжета, но в то же время, не в силах принять чью бы то ни было сторону, проникалась странным, до поры преждевременным и недоказуемым убеждением, что эта история, описанная обыденными словами, решалась в ином мире, где главенствует Рок.
Ни раньше, ни позже, - даже читая страшные свидетельства остатка уничтоженных поколений, - я не переживала испепеляющую близость Рока с такой силой, с какой мне довелось пережить ее тогда, когда, склоняясь над захватанными страницами, я чувствовала за плечом присутствие силы, которую греки, исполненные ужаса и почтения, называли неизбежностью - Ананке. Однако, в отличие от греческой, здесь главенствовала другая неизбежность. Она ложилась иным, невиданным контуром, линия которого, впрочем нигде не вычерченная явственно, проступала красным поверх написанных строк. Эта неизбежность, которую я назвала нашей, не заслуживала почтения: чем дальше, тем яснее я узнавала ее низкие черты.
Позже, обсуждая события церковного раскола с главными участниками моей тогдашней жизни, я выучила имена и, пользуясь Митиным оживляющим методом, рассуждала так, словно видела их совершенно живыми, выходящими на подмостки, под которыми, страдая от невозможности ни вмешаться, ни защитить, но непрестанно размышляя, я стояла долгие месяцы, пока на других, наскоро сколоченных мостках, - уже не воображаемых, но не менее реальных, разворачивалась моя собственная, гибельная история.
Шаг за шагом я проникалась стойким убеждением: несколько лет церковной смуты, границы которой определялись с одной стороны Поместным Собором 1917-1918 годов, а с другой - смертью патриарха Тихона, не сводятся к логической последовательности событий, пусть противоречивых и трагических, но ограниченных временем. В отличие от болезни владыки, свидетельствующей о прошлом церкви больше, чем о ее будущем, эти события действовали как раз наоборот. Они говорили о будущем, поскольку прошлое, в котором они разворачивались, не оправдало ничьих надежд. Я видела их не распутанным, но грубо разрубленным узлом, в который - накануне революции - сплелись все главные течения русской церковной и культурно-исторической мысли. Эти течения - в согласии со своей прошлой фантазией я называла их холодными стержнями несли в себе биографические и внешние черты главных действующих лиц.
Словно узнавая прежде виденное, я вглядывалась в псевдоиудейский, нервный лик А. И. Введенского, вдохновителя и светильника обновленческого раскола, частого гостя салона Мережковских. Исследователь причин неверия русской интеллигенции (из книги я узнала, что в 1911 году им была написана и опубликована в журнале "Странник" обширная статья, носящая соответственное название и основанная на анализе тысяч заполненных и присланных в редакцию анкет), он определил две главные тенденции преодоления этого, невыносимого его сердцу общественного состояния: апологетика (примирение религии и науки) и реформаторство (обновление церкви).
Рядом вставал его друг, кряжистый и широкоплечий А. И. Боярский, народник, человек практической сметки и убежденный сторонник ориентации церкви на рабочий класс. В посрамление интеллигентов, опасавшихся рабочих и называвших их богохульниками, он стал священником при Ижорском заводе, вел популярные среди молодых рабочих тематические беседы, больше похожие на занятия народного университета.
Богатырская фигура православного иеромонаха Антонина Грановского (на два вершка превосходил по росту Петра Первого), пророка и ученого, русского Лютера, вставала в один ряд с теми, против кого 200 лет свирепело официальное православие и рубило руки, сложенные двоеперстием. Этот митрополит, шокировавший и веселивший современников простонародной грубостью выражений, был единственным из всех, церковных и нецерковных, кто задолго до революции, выступая в комиссии по выработке законов о печати, высказался за полную, ничем не ограниченную свободу печати с совершенным уничтожением всякой цензуры. Страстный правдоискатель и недостижимо образованный человек, он поразил меня тем, что в работе над магистерской диссертацией "Книга пророка Варуха" использовал, для воспроизведения утерянного древнееврейского оригинала, тексты на греческом, арабском, коптском, эфиопском, армянском, грузинском и некоторых других древних языках, самые названия которых я узнавала впервые.
Против этих троих вставал расстрелянный митрополит Вениамин, бесспорный в страдании и величии, любимец рабочих, совсем не похожий на гордого "князя церкви", однако взявший на себя, перед лицом безбожной власти, всю полноту ответственности за невыполнение распоряжения пролетарского государства об изъятии церковных ценностей. За ним поднималась загадочная фигура патриарха Тихона, самую загадочность которой придавали 38 дней, проведенные в застенках НКВД: по выходе владыка искренне и в согласии со своей совестью покаялся перед Советской властью, признав себя виновным за ее неприятие и публичное поношение.
Углубляясь в перипетии церковного раскола, по одной стороне которого стояла "Живая церковь", поддержавшая Советскую власть и ею поддержанная, и, как выяснилось позже, презираемая представителями этой власти, по другой "тихоновщина", движение, названное по имени возглавляющего ее иерарха, я приходила в тяжкое уныние: мысленно представляя себе разговор с Митей и предвосхищая его безапелляционные предпочтения - все, кто угодно, кроме выкормышей Советов, - опускала глаза. Не было моих сил назвать их - худшими. Многие из них - стоявших и по ту, и по другую сторону, казались мне именно той земной солью, чья духовная и интеллектуальная деятельность влияет на будущее страны. Многие из них принадлежали к тончайшему слою людей, которым знаком вкус свободы.