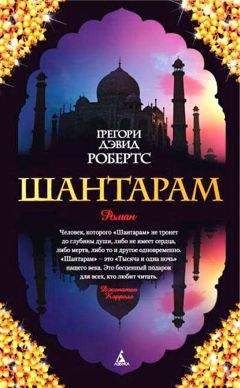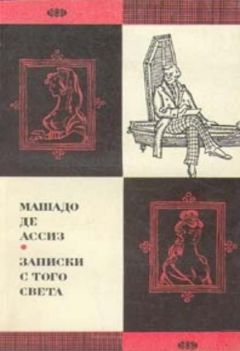сменяется унынием.
Еще полчаса. Тишина.
Гуляю уже с отстраненным видом, без эмоций. Переки-пели уже. Переварились.
И вот меня неожиданно хватают за руку: «Русо к адвокату…»
ОООО…
Со счастливой улыбкой выхожу.
Привычно долго открываются ворота, двери, двери, двери…
Вижу адвокатов, заходим в переговорную комнату, и далее следует немая сцена.
Я чуть приподнимаю голову и брови, как бы спрашивая, и…?? Они оба уверенно показывают мне четыре кулака с поднятыми большими пальцами вверх!!!
!!!!!!!!!!!
Гора с плеч.
Я еще приподнимаю чуть голову (хочу спросить – когда?). Паоло уже пишет на листочке, вижу – 40 минут, бумаги надо оформить.
Мы понимаем друг друга без слов.
Я развожу руки – выражая тем самым восторг их работой.
Они расплываются в благодарной самодовольной улыбке. Да, мы такие – мы зубры адвокатского дела.
И мы расходимся.
Все это заняло секунд тридцать–сорок, не больше.
Я стучу в дверь, говорю: «Все, поговорили».
Охранник в шоке: «Все?»
«Да, – говорю, – все», – и улыбаюсь.
Он смотрит на меня очень удивленно. Наверное, никто еще не беседовал с двумя адвокатами сорок секунд.
Я выхожу с внутренней улыбкой. Улыбкой счастливого человека.
Пока мы идем, он еще раз спрашивает: что, поговорили? Да, говорю, поговорили. Он в недоумении.
Проходим очередные ворота.
У него другие охранники также спрашивают: «Что, не было встречи с адвокатом? Обратно ведешь?» Он говорит: «Была встреча». Тоже удивляются.
Спрашивают у меня, откуда я?
«Из России, – говорю, – из Москвы. Мы там все быстрые».
Смеются: «Вот эти русские такие быстрые».
Улыбаюсь, бразильцы вообще любят улыбчивых.
Улыбается человек, значит, у него все в порядке. Следовательно, опасность от него не исходит. У нас, наоборот, улыбка воспринимается настороженно. Если человек улыбается, остальные напрягаются. Что он улыбается-то, может, замыслил что-нибудь нехорошее против меня?
Вспоминается случай, как я как-то ехал в московском метро с людьми, которые лет десять не спускались в подземку. Улыбаемся. На нас все удивленно смотрят… И мне мой спутник говорит: «Что-то не так». Оглядывается… хлопает себя театрально по лбу и говорит: «Я забыл, что в метро принято ездить с грустным лицом».
Итак, на позитиве вхожу в тюремный блок.
Подбегает Жан: «Ну что?»
«Все хорошо, – говорю. – Скоро выпустят».
Жан не воспринимает мои слова буквально.
Садимся на солнышке.
Сидим.
Меня переполняет. Думаю, сейчас уже можно и сказать.
«Жан, – говорю, – меня СЕГОДНЯ выпустят. Сейчас».
Не верит.
Я бы сам не поверил.
Через несколько минут его мозг перестраивается.
Жан честно говорит: «Я тебе завидую».
Скручивает табак.
Курим.
Скручивает еще.
Курим.
Звучит команда: по камерам.
Захожу в камеру.
Выпиваю воды из-под крана. В горле пересохло.
Сажусь.
Жду.
Теперь минуты идут, как часы.
И вот… Охранник подходит к нашей камере
и говорит: «Русо на выход».
Я ждал этого.
Сокамерники спрашивают: что, к адвокату опять?
Я только улыбаюсь.
Охранник говорит: «Его освобождают».
Все в шоке.
В ступоре.
Я думаю, если бы я умер – все удивились бы меньше.
Шок сменяется резким оживлением.
Обнимают. Поздравляют.
Как коршуны набрасываются на мои вещи.
Аклика сразу накинул себе на плечи мое теплое одеяло, показывая всем – это мое. Это мое.
С трудом спасаю часть вещей для Жана.
Агрика и Аклика быстро пишут свои адреса: пиши, говорят, не забывай.
Охранник торопит: «Выходи давай, что, не хочешь?» – шутит он и театрально
закрывает дверь обратно. Я улыбаюсь.
Я улыбаюсь.
На ватных ногах, как пьяный, не помня себя, выхожу.
Мне все что-то говорят, обнимают вновь, кричат вслед, я не понимаю, не в состоянии понять, в голове только как эхо звучит «я свободен, я свободен».
Это неописуемо. В подобном состоянии пребывает лыжник или бегун, пересекающий финишную черту первым. К нему подбегают со всех сторон, обнимают, что-то говорят, а он, запыхавшись, с обезумевшими глазами только иногда кивает и улыбается. Но я уверен, что ничего не слышит.
В том смысле, что слова он слышит…
Но все это как-то мелко по сравнению с тем, что он испытывает в данный момент, и слова проходят сквозь его мозг без анализа их значения.
Я был как этот спортсмен…
Тюремное болото не выпускает меня
Передал Жану остатки вещей, пожелал, не помню чего (я почти не соображал, в голове только стучало тук-тук, тук-тук, как после кросса).
Охранник торопил меня, да я и сам торопился.
Вышел из нашего тюремного блока.
Пошли получать мои вещи.
Вся тюремная система устроена так, что тебе трудно из нее выпорхнуть.
Ты должен из нее вылезти, продираясь, как младенец при рождении.
И тебе обязательно должны помочь опытные акушеры.
Меня ждала встреча все с тем же непонятным охранником с лысой головой, татуированным с головы, в буквальном смысле этого слова, до ног. Его обнаженных ног я, конечно, не видел, но был уверен, что у него наколки были и там. Может, только член он пощадил, хотя нет, чувство жалости ему не свойственно.
Меня всегда пугали люди, которые с жестокостью относятся к себе. Жалеть других они точно не будут.
Его руки, кисти, шея – все было исписано синей вязью татуировок.
Это были не простые татуировки, а замысловатые.
В основном – библейские мотивы. На них были изображены кающиеся грешники, умирающие в жутких муках.
Зловещие сюжеты.
Одет он был в брюки и жилетку из черной кожи на голое тело. В ушах, бровях и даже в носу был массивный пирсинг.
Он напоминал российского любителя тяжелой музыки или байкера. Я думаю, он из тех, у кого обязательно есть мощная стереосистема где-нибудь дома, в подвале.
Для роли маньяка его фактура подходила идеально. Шея бычья с белоснежной кожей молодого поросенка, исписанная вязью черно-синих чернил. Глаза маленькие, свиные. Более всего он походил на бультерьера.
Очень колоритный персонаж. Непонятно, почему ему разрешали находиться в такой одежде в пределах тюрьмы. Видимо, для этого были веские причины.
От него исходила неприятная, тяжелая, как та музыка, которую он слушает, энергетика.
Музыка – это отражение внутренней жизни человека, его сути или того, чего ему не хватает.
Всем своим видом он заявлял: со мной шутки плохи. Он боялся этого мира. Надел броню.
Мое веселое настроение как-то сразу улетучилось.
Вначале он повел меня к специальному столу, где полчаса дотошно снимал отпечатки пальцев. Он делал это с остервенением, даже не жестко, а жестоко. С силой вдавливал мои пальцы в бумагу, повторив эту процедуру не меньше пяти раз. Зачем пять оригиналов моих отпечатков, особенно учитывая, что он же их уже брал у меня при поступлении. Неужели они могли измениться?
Покончив с этой процедурой, он стал искать сверток моих вещей в кладовке.
Нашел. Они были опечатаны.
Я должен был подписать документы об их получении. Решил это сделать сразу, так как, во-первых, хотел как можно быстрее избавиться от общества этого человека и, во-вторых, меня, по большому счету, не очень волновало полное наличие всех вещей.
Главное, поскорее выйти отсюда.
Мое поведение ему не понравилось.
Он недовольно, я бы даже сказал, гневно потребовал, чтобы я осмотрел вещи. От него исходила такая темная энергетика (думаю, все встречались с подобными людьми), что она передалась и мне. Я с дрожью, сидя напротив него, уставившегося на меня, стал нарочито медленно и обстоятельно проверять