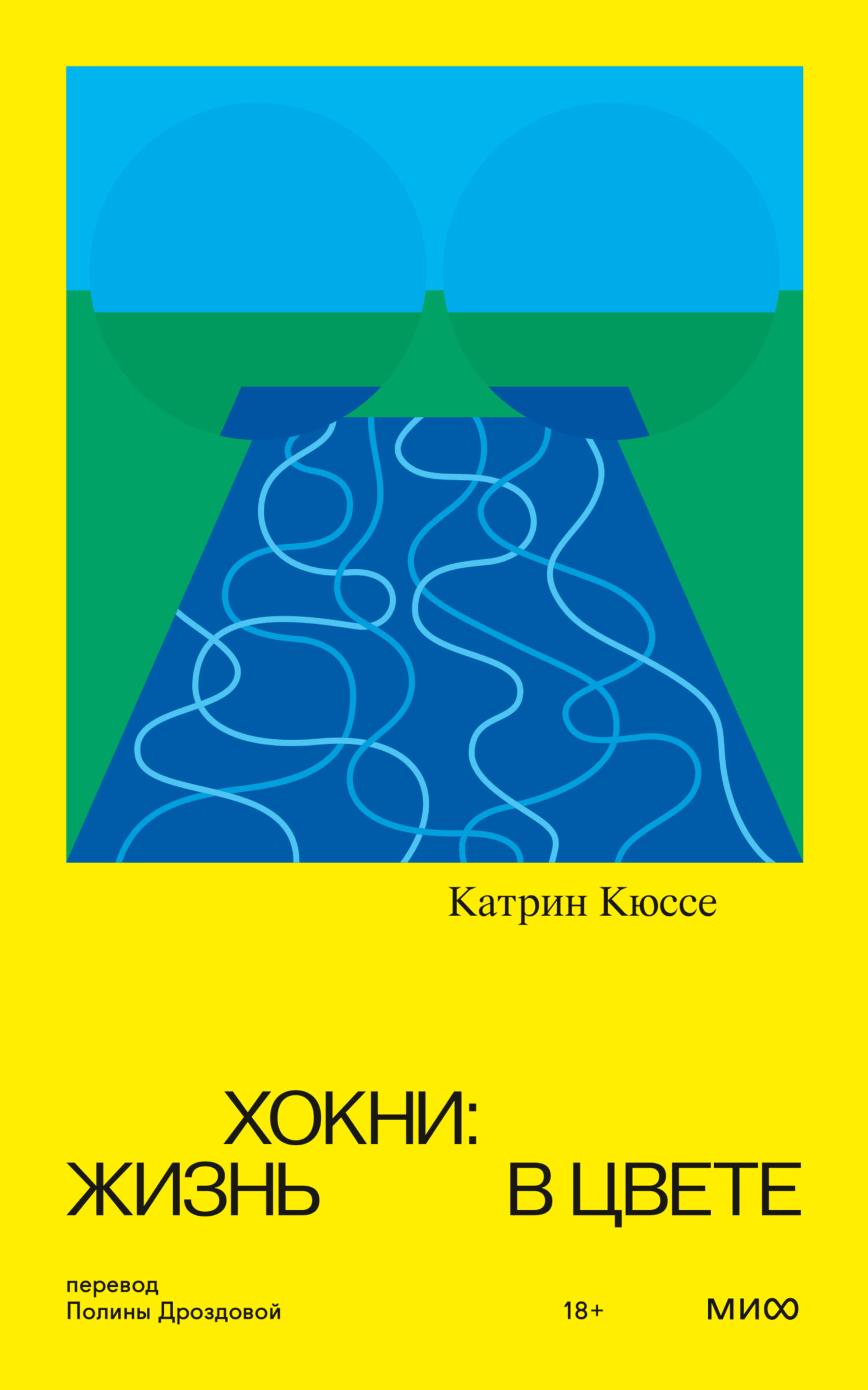единой машины. За каких-нибудь полтора часа он мог заполнить целый блокнот рисунками стебельков и травинок. Рисуя траву, он учился видеть ее, чего у него никогда не получалось при фотографировании, потому что требовалось время, чтобы рассмотреть ее и соразмерить пространство. В отличие от йоркширских пейзажей, написанных им для Джонатана, на этих его акварелях не было ни панорамных видов, ни маршрутов прогулок по сельской местности, но были возделанные поля, лежащие вдоль дороги, и краски природы, меняющиеся вместе с временем года.
Находясь проездом в Лос-Анджелесе весной 2005 года, он внезапно ощутил желание писать портреты маслом. После нескольких лет работы акварелью масло показалось ему такой богатой и такой простой техникой! Зачем от нее отказываться? По возвращении в Бридлингтон он снова принялся за пейзажи – но теперь уже маслом. Было невозможно обманываться относительно источника энергии и радости, переполнявших его. Начиная с его прогулок в Холланд-парке в апреле 2002-го, с тех самых пор, как его коснулась благодать – потому что речь шла именно о ней: о благодати в религиозном, духовном смысле, – будущий сюжет вырисовывался все четче. Было уже совсем «горячо», как говорят в игре в жмурки, когда один из детей с завязанными глазами приближается к цели. От возделанных полей он перешел к деревьям. Одна дорога, обсаженная с обеих сторон деревьями, кроны которых переплетались, образуя естественный свод, особенно ему нравилась: он писал ее в разные времена года, фиксируя каждое изменение света и цвета. Не было ничего прекраснее смены времен года. В ней была сама суть изменений. В ней была сама жизнь.
Он писал на пленэре – на открытом воздухе – выбирая определенный сюжет, как художники барбизонской школы в XIX веке. Зимой им с Джеем-Пи приходилось надевать на себя по несколько слоев теплой одежды, так что каждый из них становился похожим на мистера Мишлена [41]. Летом самый удивительный свет был с шести до девяти часов утра: и они вставали очень рано. Когда начинался дождь, Джей-Пи раскрывал огромный зонт, и на картине иногда оставались следы капель. Дэвид купил пикап «Тойота» той же модели, какую использовали военные в Афганистане, и эта машина позволяла им преодолевать любые дороги в любую погоду; кузов автомобиля они оборудовали широкими полками, чтобы складывать туда непросохшие холсты. Дэвида забавляла необходимость решать всякие технические проблемы: они напоминали ему о детстве, каникулах в скаутских лагерях. Но самое главное – чем больше он рисовал, тем лучше видел. А чем лучше видел – чем больше точности и напряженности было в его взгляде, – тем больше испытывал желание рисовать.
Он часто замечал, что переезды с одного континента на другой заставляли его менять угол зрения и способствовали появлению новых идей. Приехав в Лос-Анджелес в июле 2006-го для организации ретроспективной выставки своих портретов в LACMA, он повесил в своей мастерской на огромную стену репродукции написанных им пейзажей: каждая картина представляла собой шесть составленных вместе холстов, – и поместил в ряд, соединив их вплотную, девять таких полотен. А когда отошел, чтобы посмотреть на них издали, увидел, что они, как казалось, образуют одну колоссальную картину, состоящую из пятидесяти четырех холстов. Дэвид спросил себя: реально ли написать подобное произведение – картину размером более чем четыре на двенадцать метров? Поистине гигантскую – она почти вдвое превышала бы размер его самой большой работы «Большой Гранд-Каньон». С помощью лишь человеческого глаза было невозможно создать настолько объемную работу, но с помощью компьютера – да. Его сестра, хорошо разбиравшаяся в информатике, показала ему год назад, как сканировать акварели, чтобы он мог отправлять их по электронной почте из Лондона и Лос-Анджелеса своим друзьям. Сканер позволял решить проблему: Дэвид сможет делать рисунок от руки, делить его на равные квадраты, а затем сканировать, чтобы создать на экране его отображение в виде мозаики. После этого он способен будет писать части одну за другой без необходимости то забираться на лестницу, то спускаться с нее, отходя подальше, чтобы охватить взглядом всю картину целиком.
Он был в состоянии эйфории, когда вернулся в Бридлингтон. Прежде всего нужно было найти подходящее место. И он искал его, разъезжая вместе с Джеем-Пи на небольшой скорости по всей округе. На краю деревушки под названием Уортер он увидел рощу деревьев и в центре нее – очень старый, кряжистый явор, или белый клен, который казался среди них патриархом. Ветви всех этих деревьев делились на тысячи маленьких веточек, сплетали между собой изящный узор, не соприкасаясь друг с другом, и устремлялись в небо. Сложные линии, напоминавшие кровеносные сосуды или мозговые извилины, расходились во все стороны и не следовали законам перспективы.
Он нашел свой сюжет. Он напишет дерево, только и всего. Большое, почти в натуральную величину. Оно будет центром картины – как дорога была центром тех картин, где изображались его маршруты. Дерево было для него героем. Оно смиренно служило человеку, выделяя кислород, согревая его своей древесиной, спасая в жару в своей тени. Эти растения воплощают собой жизненный цикл, покрываясь по очереди то почками, то листьями, то цветами, то плодами, то снегом. Ни одно из них не похоже на другое. Много наблюдая за деревьями, Дэвид чувствовал свою близость с ними, как если бы это были его друзья. Их искривленные ветви и узловатые стволы напоминали ему артритные руки его матери, которая в конце жизни была не в состоянии даже нажать на выключатель. Деревья вообще были похожи на его мать: спокойные, безмятежные, с крепкими, надежными корнями, самоотверженно делающие свое дело. Их присутствие было незаметным, таинственным и величественным.
Он позвонил даме, главному хранителю современного искусства в Королевской академии художеств, и попросил зарезервировать для него на летней выставке большую стену в глубине галереи III. Повесить свои работы на этом месте желало большинство из сотни академиков. Хранителю придется выдвигать весомые аргументы, чтобы уговорить выставочный комитет и совет Королевской академии. Нужно было ее убедить.
«Я собираюсь создать самую большую картину из всех, когда-либо написанных на пленэре, Эдит, и самую большую из всех, когда-либо выставляемых на летней экспозиции за все двести тридцать девять лет, что они проводятся Королевской академией художеств».
Его возбуждение было вызвано не рекордом, который он готовился побить, а осознанием того, что он готовился наконец написать свой главный шедевр, свою самую большую работу. Большую не только по размеру, но и по сюжету и силе воздействия. Это будет величайшая картина за всю его карьеру: она станет результатом всего, что он до этого сделал в жизни.
Ему следовало поторопиться, потому что оставалось всего несколько недель зимы, а зимой световой день длится не более шести часов. Он хотел написать свое дерево именно в это время года: когда