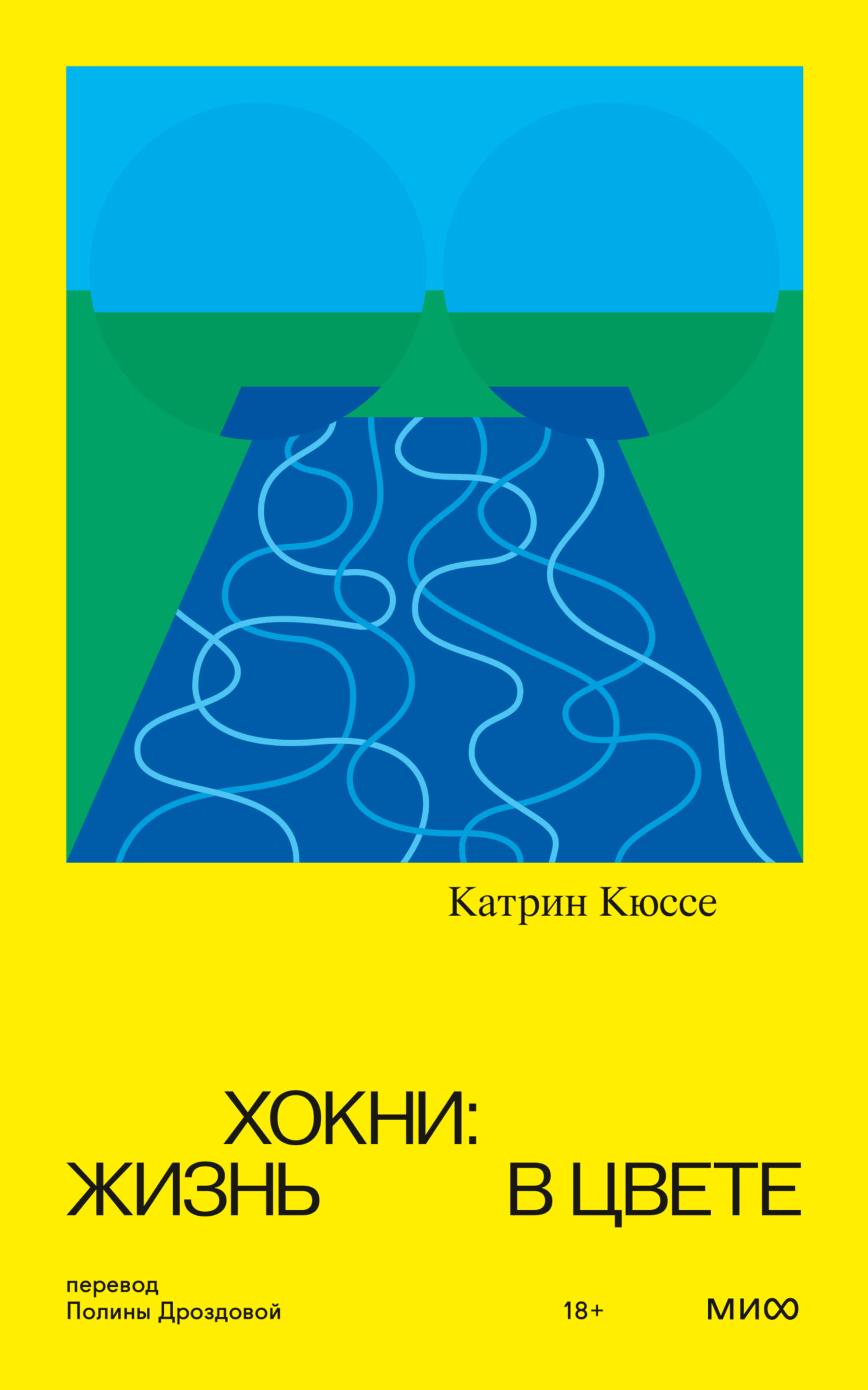Лос-Анджелес. Он был уверен, что Ван Гог воспользовался бы айфоном, – если бы только он тогда был, – чтобы карябать те маленькие рисуночки, которыми он пересыпал свои письма к брату Тео, и что Рембрандт тоже использовал бы новые технологии, если бы была такая возможность. Когда год спустя Стив Джобс объявил о создании айпада, Дэвид тут же купил его. Экран у айпада был в четыре раза больше, чем у айфона: он мог уже не просто рисовать одним пальцем, а использовать все пальцы или рисовать стилусом. Новый гаджет позволял ему сразу же изображать все, что отмечал его взгляд: стеклянную пепельницу, полную окурков, лампу и ее отражение в оконном стекле, кран в раковине, кепку на столе, ногу со стоящей рядом туфлей, когда он вставал с постели, букет цветов. Ко всем своим курткам он попросил пришить большие внутренние карманы, чтобы иметь возможность везде и в любую погоду носить с собой планшет.
Благодаря маленьким видеокамерам с высоким разрешением, которые Джей-Пи установил по бокам «Тойоты», он снимал, как менялась природа на протяжении одной и той же дороги с девяти разных точек, и потом представил работу, в которой завораживающим образом несколько экранов соединялись с видео, назвав ее «Уолдгэйтский лес. Четыре времени года». Но он мог обходиться и без технологий: продолжал писать деревья, а огромный, похожий на тотем пень, который стал для него особенно дорог, одел в пурпур, как если бы это был кардинал. Яркими красками он подчеркивал красоту сваленных деревьев, превратившихся в бревна, лежавшие вдоль дороги: их оранжеватая сердцевина напоминала трепещущую плоть. Он выполнил огромную картину, состоящую из тридцати двух холстов, где в стилизованной форме изобразил приход весны – времени года, когда каждое растение, каждая почка и каждый цветок пробуждаются и тянутся ввысь и вся природа, кажется, находится в состоянии возбуждения. Американский критик Клемент Гринберг как-то сказал, что в наши дни уже невозможно писать пейзажи! Что ж, он вернет искусству этот жанр, не слишком жалуемый художниками после Констебла и Тёрнера.
Счастье не зависело ни от успеха, ни от удовлетворения, чего он добился против всех и вся, ни от почестей – незадолго до его семидесятипятилетия королева пожаловала ему орден заслуг, которым были отмечены лишь двадцать четыре человека во всей Англии и который он, хоть его мало заботили знаки отличия, принял, поскольку не мог отказаться, не оскорбив королеву, и был учтив, – ни от денег: его картины продавались теперь за безумные деньги, и Дэвид стал очень богат, но состояние служило ему лишь для того, чтобы обеспечивать определенный комфорт, и не влияло на самое главное – желание рисовать. Счастье, несомненно, зависит от работы и осознания того, что бесконечность находится в глазах зрителя. Но сильнее всего счастье зависит от дружбы.
У него был круг преданных ему людей, работавших на него в Лос-Анджелесе и Лондоне: Грегори, Грейвз и еще несколько человек, к которым он испытывал абсолютное доверие. У него был семейный круг: брат и сестра, остававшиеся в Йоркшире, с которыми он сохранял близкие отношения на протяжении долгих лет. Маргарет жила неподалеку от него, и они виделись почти каждый день; а до Пола, уже вышедшего на пенсию, он мог добраться за час. И рядом с ним, в Бридлингтоне, был самый близкий его круг, благодаря которому от него отступил страшный призрак одиночества. Его команда. Совсем немного близких друзей, разделявших с ним его повседневную жизнь в кирпичном доме в трех минутах ходьбы от моря, – те, кто заботился о нем, кто никогда его не оставит.
Джон каждый день покупал свежие цветы, со вкусом расставляя их по разным комнатам, прогуливал собак и готовил изысканные обеды и ужины, которые затем подавал в столовой с карминно-красными стенами: он заботился обо всех них почти как мать. Его комната была на первом этаже, в противоположном от комнаты Дэвида конце коридора. Джей-Пи, ставший его главным помощником, был для него будто взрослый и независимый сын. Он занимал студию на первом этаже, часто уезжая на выходные в Лондон, где у него была квартира рядом с вокзалом Сент-Панкрас. Он постоянно возил Дэвида, сопровождая его в поездках по округе, и Дэвид был счастлив, что нашел столь терпеливого союзника, взгляд которого с годами приобрел зоркость, так что он теперь не меньше него самого воодушевлялся при виде сельских пейзажей. Другой его помощник проводил с ними несколько дней в неделю, отвечая за вопросы, связанные с техникой и информатикой. И потом еще был Доминик, которого все звали Дом, – их малыш, самый младший в доме. Это был молодой парнишка родом из Бридлингтона, с которым Джон познакомился как-то на пикнике, когда тому было только семнадцать лет, и который начал выполнять для Дэвида разные поручения в период его работы над огромной картиной «Высокие деревья близ Уортера». Теперь ему было двадцать три года, он бросил университет, уйдя со второго курса, чтобы целиком посвятить себя работе у Дэвида; Дом вносил в их команду энергию и свежесть юности. Его радость оттого, что Дэвид написал его портрет или вручил ему ключ от дома – свидетельство оказываемого доверия, – напоминала Дэвиду восторженный энтузиазм Байрона, даже если внешне кудрявый блондин Дом с его крепким спортивным телом был совсем непохож на хрупкого брюнета Байрона.
Это была их семья.
Даже больше чем семья. Это было сообщество людей, свободных духом и телом. В мире, где человеком все больше и больше управляют средства массовой информации, интернет и органы государственной власти, Дэвид создал островок свободы. Его дом в Бридлингтоне стал последним убежищем независимой богемной жизни. Они могли курить, пить, отправляться в «искусственный рай» [42] – делать все, что душе угодно, лишь бы это никому не причиняло вреда. По обоюдному согласию Джон и Дэвид прекратили свои сексуальные отношения несколько лет назад, когда Дэвиду исполнился семьдесят один. Джон и Доминик были любовниками. Дом был на двадцать пять лет моложе Джона, так же как Джону было на двадцать пять лет меньше, чем Дэвиду. Сам же Дэвид больше не мог пить, употреблять тяжелые наркотики, похвастаться эрекцией, достойной так называться, но испытывал при этом не зависть, а радость оттого, что под его крышей живет и передается желание. Терпимость была исчезающей ценностью. За кирпичными стенами дома с эркерными окнами в трех минутах ходьбы от моря скрывался рай.
Это была свобода, которую трудно сохранять, старея: возраст загоняет нас в рамки устойчивых привычек и внушает нам разнообразные страхи и мании. Дэвид заметил это недавно, когда ужинал в Нью-Йорке с Питером, впервые после нескольких прошедших лет. Его бывший любовник по-прежнему жил с датчанином, ради которого когда-то бросил Дэвида, и