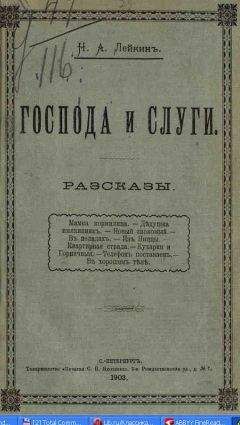— Какой типъ… Русская красавица… — пробормоталъ статскій. — Говорятъ, въ Петербургѣ нѣтъ здоровыхъ женщинъ… А это что? Вѣдь ужъ тутъ безъ прикрасъ, безъ притираній…
— Грѣха стоитъ… — отвѣчалъ офицеръ.
— Барышня, можно мнѣ въ мелочную лавку зайти купить булку съ черной патокой? — заискивающе спросила у бонны Еликанида.
— Зачѣмъ? Съ какой стати? Вѣдь ты сыта…
— Пища-то у насъ, барышня, такая… Все одно и одно… Супъ жидкій… Ложкой ударь — пузырь не вскочитъ.
— Тебѣ даютъ то, что полезно для молока и не вредно для ребенка.
— Ахъ, барышня! Пожалѣйте тоже и мою жизнь. Глупа была, сунулась…
— Иди, иди… Входи-же въ подъѣздъ…
Онѣ стояли ужъ у своего подъѣзда.
— А орѣшковъ кедровыхъ можно? Я попросила-бы швейцара нашего купить.
— Входи, тебѣ говорятъ! Дома у Катерины Васильевны объ этомъ спросишь. Передай Шурочку швейцару. Онъ ее внесетъ наверхъ.
Онѣ вошли въ подъѣздъ и стали взбираться по лѣстницѣ. Швейцаръ впереди ихъ несъ на рукахъ дѣвочку.
Бонна-фребеличка мадемуазель Бейнъ очень обидѣлась, что кормилица Еликанида сочла ее за ровню себѣ и настолько фамильярничала съ ней, барышней Бейнъ, что даже предлагала прокатить ее по Невскому на свой полтинникъ.
«По своей наукѣ я могу даже не бонной быть, а гувернанткой при маленькихъ дѣтяхъ, а она, эта деревенская дѣвка, предлагаетъ мнѣ вмѣстѣ съ ней надувать моихъ хозяевъ и ѣхать съ ней кататься», — разсуждала бонна, вернувшись домой, и сейчасъ-же пожаловалась встрѣтившей ихъ въ прихожей Екатеринѣ Васильевнѣ, бросившейся къ Шурочкѣ, поднявшей ее на руки и воскликнувшей:
— Нагулялась-ли ты, моя прелесть? Нагулялась-ли, жизненочекъ мой?
Екатерина Васильевна долго цѣловала раскраснѣвшееся отъ легкаго мороза личико дочурки и, наконецъ, тревожно спросила бонну:
— Не долго-ли вы, однако, гуляли, мадемуазель? Я сказала, что можно выйти на воздухъ на двадцать минутъ, но на часы-то не посмотрѣла, когда вы ушли.
— Да вѣдь съ мамкой не сообразишь, — отвѣчала бонна, принимаясь раздѣвать Шурочку. — Зовешь ее домой, а она упрямится и не идетъ.
— Отчего? что такое? — тревожно задала вопросъ Екатерина Васильевна и обернулась на мамку, но та уже ушла къ себѣ переодѣваться.
— Ужасно непозволительно себя ведетъ на улицѣ. Перемигивается со встрѣчными солдатами. И даже отвѣчаетъ на ихъ дурацкіе грубые комплименты.
— Да что вы! Да какъ-же она смѣетъ? Ну, тогда нужно давать вамъ въ провожатые Павла. Вѣдь прежде съ Еликанидой этого не было, вы не жаловались.
— Всегда было… Но сегодня изъ рукъ вонъ. Вдругъ говоритъ мнѣ: «поѣдемте, говоритъ, барышня, кататься по Невскому. Я васъ на свои деньги прокачу, а барыня не узнаетъ!»
— Это она вамъ говоритъ? — ужаснулась барыня. — Она посмѣла?
— Да. И чуть въ мелочную лавку за булкой съ патокой отъ меня не убѣжала.
— За булкой съ патокой? Ахъ, мерзкая тварь! Вѣдь конфетами кормлю, лучшими конфетами. Шоколадъ у ней со стола не сходитъ.
— Солдатъ какой-то встрѣтился ея знакомый… — подкрашивала бонна.
— Ея знакомый, вы говорите? Боже мой! — пришла въ ужасъ Катерина Васильевна. — Надо будетъ Базилю сказать, когда онъ вернется со службы. Солдатъ знакомый! Кататься съ солдатомъ по Невскому!
— Да не съ солдатомъ, а со мной, Екатерина Васильевна.
— Все равно, ей нужно задать гонку. А мужъ пусть еще строже поговоритъ съ ней. Казаться по Невскому! Бѣдный Мурочка! Какое послѣ этого у мамки можетъ быть для него молоко! Нѣтъ, надо вамъ давать въ провожатые Павла. Непремѣнно надо Павла, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ уѣдетъ куда-нибудь кататься съ солдатомъ. Вѣдь она дура, совсѣмъ дура… Лицомъ-то только красива, а сама глупа, какъ пробка… Ее только помани… Бѣдный ребенокъ! Я про Мурочку… Вотъ слѣди послѣ этого за его здоровьемъ по всѣмъ правиламъ гигіены, убивайся! Ахъ, какъ вы меня разстроили, мамзель, этимъ сообщеніемъ! У меня даже руки трясутся и закружилась голова. Фу! Дайте мнѣ мой спиртъ. Пожалуйста.
Екатерина Васильевна опустилась въ гостиной на мягкое кресло и взялась обѣими руками за голову, блеснувъ десяткомъ брилліантовыхъ колецъ. Былъ поданъ спиртъ. Бонна ужъ и сама была не рада, что разсказала барынѣ о катаньѣ по Невскому.
— Ахъ, какъ въ голову ударило! Несчастный Мурочка! — говорила Екатерина Васильевна и ужъ блеснула слезами на глазахъ. — А мамку я разнесу сейчасъ… Боже мой, не послать-ли за докторомъ?
— Но вѣдь ничего-же не случилось, Катерина Васильевна, — утѣшала хозяйку бонна. — Я не допустила.
— Солдатъ… прохожіе… перемигивается съ ними… Булка съ патокой… Боже мой… Вѣдь у ней отъ одного этого можетъ уже испортиться молоко. Она волнуется, ей всякое волненіе вредно. Конечно, Мурочка для нея чужой ребенокъ, но все-таки она обязана… Дайте мнѣ валерьянъ.
— Успокойтесь, Катерина Васильевна… — говорила хозяйкѣ бонна, подавая капли. — Конечно, напрасно я вамъ и сказала-то.
— Обязаны говорить… непремѣнно обязаны. Нѣтъ, надо послать за докторомъ. Пусть онъ осмотритъ и Мурочку, и мамку. Надо предупреждать болѣзни. Боже мой, и какія хлопоты, какая возня съ этой мамкой! Пошлите Павла за докторомъ.
— Екатерина Васильевна, да вѣдь Еликанида не разговаривала съ солдатомъ, а только отвѣтила ему двумя-тремя какими-то глупыми словами.
— Еще-бы она съ нимъ разговаривала или обнималась!
— Оставьте доктора-то. Зачѣмъ докторъ? Вѣдь въ сущности это пустяки…
— Какъ пустяки? Нашъ ребенокъ, а вы говорите: пустяки! — огрызнулась Екатерина Васильевна. — Для васъ пустяки потому, что онъ не вашъ, а для насъ съ мужемъ не пустяки… Нѣтъ, я сейчасъ буду телефонировать мужу на службу! Пусть онъ что хочетъ дѣлаетъ. Пріѣхать ему сейчасъ трудно, у него сегодня докладъ въ четыре часа у министра, но можетъ быть онъ распорядится пригласить даже профессора Ивана Павлыча.
Все еще держась за голову, Екатерина Васильевна направилась къ телефону. Бонна слѣдовала сзади ея и уговаривала успокоиться. Екатерина Васильевна продолжала:
— А ужъ съ прогулками я теперь не знаю, какъ и быть. Шурочкѣ докторъ велѣлъ выходить на воздухъ только на четверть часа, мамкѣ-же предписано для здоровья дѣлать моціонъ полчаса. Посылать ее одну съ Павломъ — неудобно. Онъ начнетъ съ ней разговаривать по дорогѣ, будетъ волновать, а это ядъ для ея молока. Я вотъ что… Я буду васъ посылать кататься съ мамкой на нашей лошади. Это будетъ лучше. Вы, Шурочка, мамка. Кучеръ свезетъ на службу мужа и, вернувшись, повезетъ васъ, а вы вокругъ Таврическаго сада одинъ — два раза… Это мѣсто достаточно пустынное… Около Таврическаго сада можете сойти съ саней и походить, а кучеръ сзади васъ поѣдетъ и не будетъ отставать. Такъ лучше… А то Павелъ… Подозрителенъ мнѣ нашъ Павелъ по отношенію къ Еликанидѣ. За нимъ тоже надо слѣдить.
Катерина Васильевна сдѣлала гримасу и покачала головой.
Она повернула ручку телефона. Звонокъ.
— Номеръ восемь тысячъ первый… Соедините. Алло! Кто говоритъ?
Но мужа не оказалось въ департаментѣ, онъ уѣхалъ уже съ докладомъ.
— Боже мой! Что-жъ это такое! Вѣдь до обѣда, пока вернется мужъ, еще три-четыре часа! А я одна, одна и не знаю, что мнѣ дѣлать, что мнѣ предпринять! — съ отчаяніемъ воскликнула Катерина Васильевна, вѣшая слуховую трубку телефона, и отправилась въ дѣтскую разносить мамку Еликаниду за ея «непозволительное поведеніе».
Быстро дойдя до дверей дѣтской, Катерина Васильевна Колоярова остановилась и задумалась:
«Вѣдь если я наброшусь на мамку и буду ей очень строго выговаривать, — соображала она, мамка испугается, станетъ плакать, и молоко ея можетъ отъ волненія испортиться, а это вредно для Мурочки. Да, ему будетъ вредно, и онъ можетъ заболѣть. Ее я не жалѣю, а Мурочка несчастный… Стало быть, надо начать слегка… Безъ выговора ее нельзя оставить, но надо слегка… А вернется мужъ — онъ ужъ ей настоящій разносъ сдѣлаетъ. Но тогда уже это будетъ постепенность, это не отразится на ея молокѣ.
И Катерина Васильевна сейчасъ-же похвалила себя за благоразуміе, за то, что ей пришла такая благая мысль о сдержанности.
Катерина Васильевна тихо вошла въ дѣтскую. Мамка Еликанида успѣла уже снять съ себя глазастый шугай, кокошникъ съ блестками, сидѣла въ не менѣе глазастомъ ситцевомъ будничномъ сарафанѣ изъ розоваго мебельнаго ситца съ громадными разводами и съ бѣлыми рукавами буффами и кормила грудью ребенка, который, оголодавъ въ ея отсутствіе, громко чмокалъ при сосаніи. Картина была умилительная. Катерина Васильевна при первомъ взглядѣ пришла въ телячій восторгъ, но тотчасъ-же замѣтила, что мамка, держа около груди Мурочку, что-то жевала, а правую руку держала въ карманѣ юбки. Екатерина Васильевна вспыхнула и бросилась къ мамкѣ:
— Покажи, что ѣшь! — крикнула она. — Не утаивай, не утаивай, ты что-то жуешь!