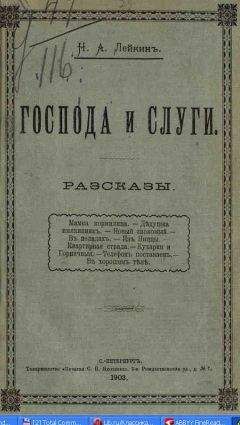Разговоръ, разумѣется, опять шелъ о мамкѣ Еликанидѣ, хотя Колояровъ снова началъ было о министрѣ.
— Представь себѣ, что она мнѣ сегодня бухнула, — сказала Колоярова. — Бухнула и повергла меня въ ужасъ… прямо въ ужасъ… „Мнѣ, говоритъ, до того скучно, что впору даже уйти отъ васъ“… Что-то въ этомъ родѣ…
Екатерина Васильевна взглянула на мужа, взглянула на бонну. Та приняла этотъ взглядъ за дозволеніе вступить въ разговоръ и прибавила:
— И мнѣ то-же самое сказала на прогулкѣ. „Что это, говоритъ, за жизнь! Меня такъ притѣсняютъ, что ужъ я подумываю, не уйти-ли мнѣ“.
— Видишь, видишь, Базиль! Стало быть ужъ у ней есть что-нибудь въ головѣ,- подхватила Колоярова.
— Не посмѣетъ, — проговорилъ мужъ. — Какъ она посмѣетъ? Это своего рода договоръ. Онъ предусмотрѣнъ закономъ, какъ всякій договоръ. У ней нѣтъ разсчетной книжки, но я выдамъ ей разсчетную книжку завтра-же и заставлю подписать.
— Она неграмотная, — пробормотала бонна.
— Подпишутся свидѣтели, и она поставитъ три креста. Законъ ограждаетъ нанимателя, — доказывалъ Колояровъ, ковыряя вилкой рыбу, и вдругъ сказалъ служившему у стола Павлу:- Позвать сюда ко мнѣ сейчасъ Акулину судомойку.
Черезъ пять минутъ Акулина, полная баба, лицо у которой было раздвинуто больше въ ширину, чѣмъ въ длину, стояла въ столовой около дверей и, держа руки подъ передникомъ, кланялась.
— Ты что это нарушаешь порядки, заведенные въ домѣ и нарушаешь спокойствіе господъ! — крикнулъ на нее Колояровъ. — Ты осмѣлилась выдать мамкѣ Еликанидѣ подсолнуховъ, зная, что всякая дача ей чего-либо съѣстного, кромѣ какъ съ господскаго стола, строжайше запрещена. А? Отвѣчай!
— Да вѣдь она проситъ, баринъ, ваше превосходительство. „Дай, говоритъ, мнѣ потѣшить зубы“. Она даже совала мнѣ три копѣйки, чтобъ я купила ей на всѣ три копѣйки подсолнуховъ, но я побоялась взять, — проговорила судомойка, покраснѣвъ лицомъ до степени варенаго рака.
— Чтобъ это было въ послѣдній разъ! Слышишь? Иначе паспортъ и разсчетъ въ руки — и вонъ! И ничего ей не давать изъ съѣстного! Да и вообще ничего не давать. Еликанида не для кухни взята.
— Да вѣдь я думала, баринъ, что если поваръ Калистратъ Иванычъ ей когда даетъ, то отчего-же мнѣ-то?..
— Поваръ даетъ? Что такое ей поваръ даетъ? — закричалъ Колояровъ. — Это для насъ новость! Говори! Что?
— Миндаль даетъ, кедровые орѣхи покупаетъ. Тутъ какъ-то корюшку копченую давалъ.
— Корюшку копченую? — воскликнула Екатерина Васильевна. — Ну, вотъ, вотъ, вотъ!.. Такъ я и знала! Оттого-то отъ Мурочки на прошлой недѣлѣ новыми мужицкими сапогами и пахло! Оттого-то онъ и плакалъ. Корюшку копченую… Вѣдь это ужасъ!.. Мамкѣ копченое! Нѣтъ, это изъ рукъ вонъ… Базиль… Ты обязанъ…
— Съ поваромъ я послѣ обѣда раздѣлаюсь. А ты ступай, — кивнулъ Колояровъ судомойкѣ. — Павелъ! Теперь вы… Когда, въ какой день и въ какой часъ вы поднесли Еликанидѣ медовую коврижку? — обратился онъ къ лакею.
Лакей вспыхнулъ.
— Коврижку-съ? Извините, ваше превосходительство, это дѣйствительно было, — отвѣчалъ онъ. — Но я знаю, что барыня имъ иногда коврижки даютъ, а потому думалъ…
— Барыня и вы — я думаю, это разница. Барыня даетъ столько, сколько не повредитъ ея здоровью, а вы… Объясните мнѣ, пожалуйста, какъ велика была эта коврижка и когда она была преподнесена?
Колояровъ уже прямо впадалъ въ тонъ слѣдователя.
— Въ Николинъ день я ей подарилъ, передъ Рождествомъ, такъ какъ она плакалась, что у ней по деревнѣ престолъ… Престольный праздникъ, значитъ. „У насъ, говоритъ, въ деревнѣ угощаются теперь, а я одна сирота“.
— Скажите пожалуйста, какой сердобольный мужчина! Но не припомните-ли вы, какъ велика была эта коврижка?
— И всего-то, баринъ, полтора фунта.
— Полтора фунта! Но вѣдь это-же ужасъ. Это прямо отрава! — воскликнула барыня. — Сожрать полтора фунта коврижки молоденькой женщинѣ, которая кормитъ грудью нѣжнаго ребенка! Полтора фунта! Боже мой! То-то Мурочка нашъ былъ боленъ въ началѣ декабря и мы посылали за профессоромъ Иваномъ Павлычемъ. Помнишь, помнишь, Базиль? И это было аккуратъ послѣ Николина дня. Боже мой, вотъ иногда бываетъ неразгаданная болѣзнь!
— Павелъ! Слышите, чтобъ это было въ послѣдній разъ! — отдалъ строгій приказъ лакею Колояровъ. — Въ послѣдній разъ. Иначе, какъ я ни привязанъ къ вамъ, мы разстанемся. Идите, и подавайте къ столу дичь!
Колояровъ сдѣлалъ жестъ рукой.
— Представь себѣ, Базилъ, теперь я вижу, что всѣ они влюблены въ нее… въ нашу Еликаниду… — сказала Колоярова мужу. — Влюблены, какъ кошки… Я про мужскую прислугу. Иначе съ какой-бы стати они стали подносить ей подарки! И Павелъ, и поваръ Калистратъ. Теперь я даже припоминаю ихъ плотоядныя улыбки, когда они смотрятъ на Еликаниду. Ахъ, какъ все это непріятно! — вздохнула она.
— Поручи горничной Дашѣ. Надо смотрѣть строже, — отвѣчалъ супругъ.
— Ахъ, и Даша тоже… Она съ ней вмѣстѣ грызла тутъ какъ-то кедровые орѣхи… — махнула рукой барыня.
— И швейцаръ тоже, нашъ швейцаръ, на мамку зубы скалитъ и встрѣчаетъ ее всякій разъ плоскими комплиментами. Вѣдь я слышу, — сплетничала бонна.
— Не подливайте, мадемуазель, масло въ огонь, не подливайте… — остановилъ ее Колояровъ.
— Боюсь я, Базиль, боюсь за Мурочку… — потрясала головой Екатерина Васильевна. — Вѣдь мы иногда уѣзжаемъ по вечерамъ въ театръ, бываемъ въ гостяхъ… Ну, что если вдругъ?..
— Успокойся, Катишь.
— Не бойтесь, Катерина Васильевна, вѣдь я дома… я слѣжу… — успокаивала Колоярову бонна.
Павелъ принесъ изъ кухни дичь и салатъ.
Черезъ десять минутъ Колояровы вышли изъ-за стола.
Послѣ обѣда, во время питья кофе, Колояровымъ былъ вызванъ въ кабинетъ поваръ Калистратъ и ему былъ данъ за мамку Еликаниду строжайшій выговоръ.
— Прошу васъ и въ то-же самое время требую во имя здоровья моего ребенка ничего не давать въ кухнѣ кормилицѣ изъ съѣстного, помимо того, что барыня назначаетъ ей на завтракъ и обѣдъ. Я торжественно требую этого, и если приказъ мой не будетъ исполняться — мы поссоримся и вы лишитесь мѣста, — сказалъ повару Колояровъ, дымя сигарой.
— Да вѣдь она, ваше превосходительство, иногда къ душѣ пристаетъ, — оправдывался поваръ, красивый малый въ усахъ. — То дай ей соленаго огурца, то трески, то кислой капусты… Умоляетъ… Вѣдь вчужѣ жалко… Ну, и…
— И вы давали ей соленой трески и кислой капусты?
Баринъ даже поднялся съ кресла и тревожно уставился на повара.
— Этого не давалъ. Какъ возможно! Я понимаю, что она господское дитя кормитъ. А вотъ корюшки копченой разъ далъ. Вѣдь когда онѣ грудью кормятъ, ихъ словно червякъ какой точитъ… и на кислое тянетъ.
— А вы гоните ее вонъ изъ кухни. Прямо гоните. Ея мѣсто въ дѣтской, около ребенка, а не въ кухнѣ.
— Да вѣдь она не идетъ. Какъ гнать-то? Тутъ вотъ какъ-то къ ней землякъ приходилъ. Нельзя-же его въ дѣтскую…
Колояровъ вздрогнулъ.
— Землякъ? Какой землякъ? Отчего-же мы этого не знали? — спросилъ онъ. — Ей строжайше запрещено принимать кого-либо изъ мужчинъ. Женщинъ можно, но мужчину ни подъ какимъ видомъ… Такъ было условлено.
— Онъ письмо изъ деревни привозилъ и она его кофеемъ поила.
— Даже кофеемъ поила!.. А намъ никто ничего не сказалъ? Ни Павелъ, ни Даша горничная, ни вы… Ну, слуги! Идите! А Еликаниду изъ кухни гнать… Не идетъ — сейчасъ-же доложить барынѣ.
Поваръ ушелъ. Колояровъ въ волненіи ходилъ большими шагами по кабинету и щипалъ бакенбарды.
„Землякъ… мужчина… Оказывается, что мы ничего не знаемъ, что у насъ въ домѣ дѣлается, — разсуждалъ онъ. — Землякъ… И никто недоноситъ. Землякъ… Вотъ это новость! Стало быть Катишь въ это время дома не было. Но вѣдь нельзя-же ей тоже и дома цѣлый день сидѣть… Ей воздухъ нуженъ… Нужно въ Гостиный дворъ, нужно на выставку куда-нибудь, на базаръ благотворительный… Наконецъ, есть и визиты приличія… Нельзя безъ нихъ… Ахъ, какъ все это неудобно! Какъ все это печально! А я на службѣ!.. Я обязанъ служить… Что-же я могу? Катя-же ужъ и такъ сидитъ много дома“.
Онъ остановился посреди кабинета и, все еще волнуясь, сталъ гладить себя по проплѣшинѣ на головѣ.
„Сказать ей? Сообщить о землякѣ? — задавалъ онъ себѣ вопросъ. — Нѣтъ, не буду ей пока ничего говорить. Это ее разстроитъ. Но надо принять мѣры, какія-нибудь мѣры… Мужикъ былъ въ кухнѣ, при всѣхъ… Конечно-же тутъ ничего не могло случиться, и Еликанида только волновалась. Но вѣдь такого рода свиданія могутъ быть и въ другомъ мѣстѣ, если ужъ у ней есть знакомые земляки. Ахъ, какъ все это нехорошо, нехорошо! Но не буду безпокоить Катю, промолчу на этотъ разъ“.
Онъ тяжело вздохнулъ, пошелъ искать жену и нашелъ ее въ дѣтской. Она сидѣла и смотрѣла, какъ обѣдала мамка. Мамка ѣла филе-де-бефъ, приправленный шампиньонами. Онъ остановился. Жена обернулась и сказала: