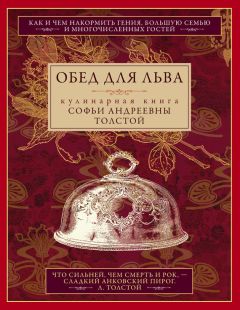Патмосов встал.
— Я лучше зайду завтра!
— А записку?
— Нет, я уж на словах.
— Как знаете, а коли его завтра не будет, объявку сделаю и комнату сдавать буду. Ну его!
Патмосов отправился в сыскное и попросил найти Резцова, дав его адрес.
— Просто сыскать?
— Да! И если он есть на квартире, известить меня, а нет — поискать по городу и тоже меня известить. Арестую я сам!
Дома Патмосов достал бумажник, вынул из него три почтовых листика и начал внимательно прочитывать их.
Это были три письма, писанные, несомненно, одной и той же женщиной к любимому человеку, и для Патмосова, по мере чтения их, становилось ясно, что процентщик не может получать таких писем.
Первое письмо начиналось воплем любящего сердца: "Сережа, не мучай меня так безжалостно!" Дальше шло страстное объяснение в любви и опять просьба не говорить о чем-то — "об этом".
"Я не могу решиться на это никогда, никогда, — читал Патмосов. — Он для меня отец, я для него дочь. Могу ли я надругаться над его чувством и оставить его одинокого! Я и так считаю себя подлой, подлой. Не мучай же меня, Сережа, и не говори мне об этом", — оканчивалось письмо, и после него подпись: "Твоя В.".
Второе письмо касалось ребенка — "маленького нашего Сережи".
"Я была вчера у него", — написано было дальше, и следовало восторженное описание младенца.
И, наконец, третье — не письмо, а записка: "Бога ради, съезди туда и сегодня же сообщи мне, что с С.? У нас прием, и я как арестованная. Бога ради!"
И все.
Как они попали в бумажник Дергачева? Кто этот Сережа, эта В.? И что-то подсказывало Патмосову, что в этих письмах тайна убийства.
Следователь еще спал, когда наутро следующего дня к нему приехал Патмосов и прямо прошел к нему в спальню.
— Вы извините меня, что я прямо лезу, но времени мало, — здороваясь, сказал он лежащему в постели Ястребову.
Ястребов встрепенулся.
— Что-нибудь новое?
— Резцова арестовал.
— Что же? Он?
— Сказать не могу, но странного много. Двадцать седьмого он ушел из квартиры и не показывался в ней. Я отрядил искать его по всем вертепам, и вот на Подольской, в непотребном доме, его нашли совсем пьяного. Он угощал компанию и хвастал деньгами. Я приехал и арестовал его. Свез в отделение к нам, и там у него нашли четыреста рублей и серебряный портсигар с монограммами.
— Спрашивали? — быстро спросил Ястребов.
— Украл, несомненно, но путает. Что был у Лукерьи, сознается; а где ночь провел — не указывает.
— Ну вот! Понятно, он убил! — воскликнул Ястребов. — Где же он?
— Вам его сегодня к одиннадцати часам доставят.
— Вы будете?
— Нет, я хочу на похороны сходить.
Ястребов стал одеваться, а Патмосов собрался уходить.
— Вот найденное у него и протокол обыска, — сказал он, кладя на стол деньги в засаленном кошельке и массивный портсигар.
— Из залогов, верно, — предположил Ястребов.
— Вы позволите взять его на несколько часов? — попросил Патмосов.
— Пожалуйста!
Патмосов ушел, а Ястребов напился чаю и прошел в камеру.
Флегонтов был уже на месте.
— Ну, Севастьян Лукич, — весело сказал Ястребов, — убийца-то, кажется, у нас. Сейчас приведут
— Кто же это, Виктор Иванович?
— А Резцов, слесарь Резцов!
— Патмосов то же говорит?
— Он и арестовал. Да что он! Знаете, они все сыщики только, как ищейки, если их по следу пустить. А чтобы додуматься до истины…
В этот момент дверь распахнулась, и в камеру в сопровождении сторожа ввалился Трехин.
— Вот и я! Честь имею кланяться!
Ястребов сердито посмотрел на него и строго сказал:
— Надо было доложить о себе, а не врываться.
— Я и не врывался, а если ваш сторож свою цигарку курит, мне некогда ждать. Я хочу еще на погребенье поспеть.
— Садитесь! — сказал ему Ястребов.
— Сел! — Трехин опустился на стул, вытянул ноги и закурил папироску.
— Рекомендую вам говорить только правду, — предупредил Ястребов и предложил обычные вопросы.
— Трехин, Степан Петров, православный, тридцати четырех лет, холостой, дворянин, поручик в отставке. Вот! Под судом не был, у следователя впервые! — Трехин затянулся папироской.
— Так. Так вот, некая девица Караваева обвиняет вас…
Трехин резко повернулся на стуле.
— В убийстве дяди! Ха-ха-ха!
— Что вы можете сказать по этому поводу? — сухо спросил следователь.
— То, что она — дура! Захоти я, и она сегодня же придет к вам и будет клясться, что наплела, но мне плевать!
— Однако вы не любили своего дяди?
— За что любить? Жид, закладчик.
— Вы грозили убить его?
— И не раз! И убил бы, если бы на момент попал, — сверкая глазами, ответил Трехин.
— Гм… И вот он убит… Где вы были двадцать седьмого числа?
— Разве я помню!
— Ну, постарайтесь припомнить. Припомните хотя, были вы в Павловске или нет?
— В Павловске? Был!
— И поздно уехали?
— В час ночи.
— И дядю видели?
— Видал.
— Где?
— На вокзале. Он шел и разговаривал с одним молодым человеком. Пошел мимо театра, по дороге к павильону.
Следователь быстро переглянулся с Флегонтовым.
— Ну-с, а вы, значит, сзади шли.
— Да, — угрюмо ответил Трехин, — я с ним говорить хотел.
— И что же?
— Не дождался, когда он кончит, и бросил их.
— Куда же вы пошли?
— А это уж мое дело, — резко ответил Трехин.
— Совершенно верно. Потрудитесь подписать ваши показания.
— С полным удовольствием! — и Трехин с росчерком подписал свою фамилию. — Извольте!
— А теперь, господин Трехин, — сказал следователь, — я вас должен арестовать и препроводить в тюрьму!
Трехин вскочил и исступленно завопил, тараща глаза:
— Что ж, вы мне не верите? Дворянину не верите? По оговору девки я — убийца?
— Пожалуйста, не кричите! — сказал Ястребов. — Возьмите его! — приказал он вошедшей тюремной страже.
Трехин хотел что-то сказать, приостановился, но вдруг с отчаянием махнул рукою и вышел из камеры. В эту минуту вошел городовой с рассыльной книгой.
— А! Резцова привели?
— Так точно-с! — ответил городовой, подавая книгу Ястребов расписался.
— Впустите его!
В камеру широким шагом вошел Резцов и остановился у порога с видом привычного ко всему человека.
Это был парень лет тридцати, типичный мастеровой, в высоких сапогах и пиджаке поверх парусиновой грязной блузы.
— Вас вчера задержали в доме терпимости на Подольской улице?
— Так точно.
— Кутили?
— Так точно.
— На какие же деньги?
— Нашел. Шел это ночью по Загородному мимо полка и нашел. Лежит папиросница. Я ее взял, а в ней деньги.
— Так. Лукерью Анфисову вы знаете?
— И очень даже хорошо. Земляки.
— Когда вы у нее были в последний раз?
— Позавчера, двадцать седьмого числа.
— И пробыли?
— Так часов до восьми. На восьми уехал.
— А не поранее?
— Никак нет. Спросите ее.
— Хозяина Дергачева вы видели?
— Не видел. Лукерья ходила в комнаты. Он обедал, потом спал.
— Так что вы ушли после него?
Резцов чуть улыбнулся и ответил:
— Зачем после, когда в восемь часов?
— А он ушел в котором часу?
— А я — то почем знаю! — уже резко ответил Резцов.
— Пока довольно, — сказал следователь и приказал увести Резцова.
— Господин просят войти, — сообщил сторож и подал Ястребову карточку.
Ястребов прочел: "Карл Эмильевич Розенцвейг".
— Проси!
В комнату вошел маленького роста, седой старичок, одетый в длинный нанковый сюртук, с тростью в руке.
Он церемонно поклонился, сел и, обернувшись всем корпусом к Ястребову, заговорил:
— Я за убийств господин Дергачев прошу взять господина Савельев. Да! Молодой господин Савельев. Николай Николаич! А почему? Господин Дергачев и я с ним давали денег под вексель, под гут вексель. И Савельев давал два вексель на тысячу двести рублей и брал у нас деньги. А потом мы узнал, что его папаша не давал свой подпись.
— Значит, этот Савельев дал вам с чужой подписью вексель?
— Ja![1] С подписом отца, коммерц-советник Савельев.
Следователь кивнул.
— Ja! — продолжал немец. — А двадцать восьмого им был срок, и я видел, как Савельев этот был в Павловск и ловил Дергачев и был пьян. Это он убил его и взял вексель!
— Завтра я осмотрю бумаги покойного, и если этих векселей не окажется, я приму к сведению ваше сообщение.
— Пожалуйста! Это очень дурной молодой человек! Николай Николаевич, сын Савельева, свой дом на Гороховой, у Красного моста. Это он сделал!
Немец встал, торжественно откланялся и вышел. Ястребов вскочил с кресла.