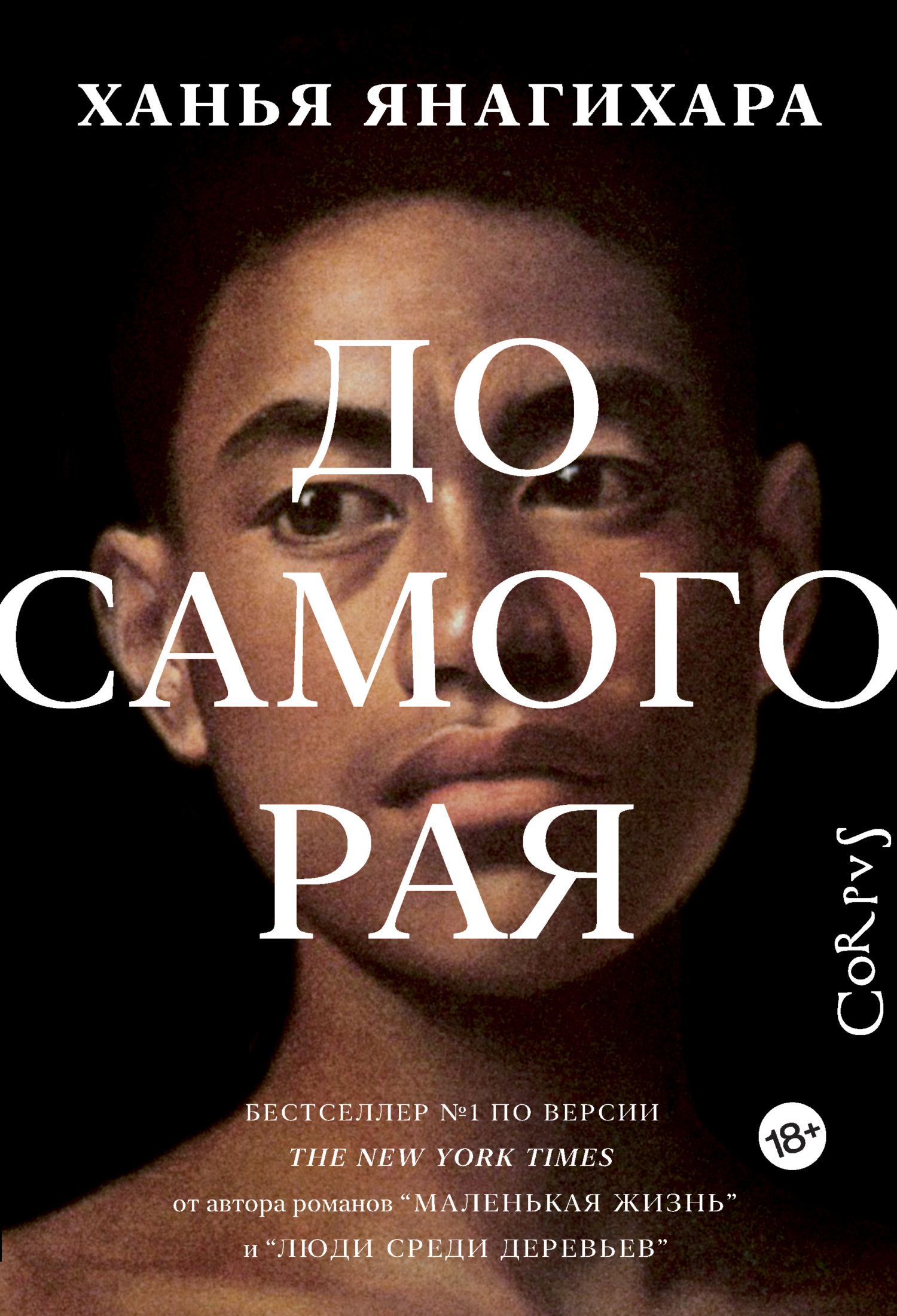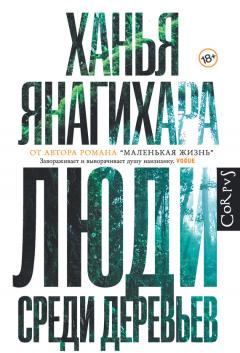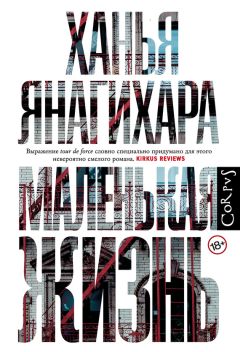выполнит любое свое обещание, и за те два десятка лет, которые они были на его попечении сначала детьми, потом взрослыми, он никогда не изменял своему слову.
Дедушка настолько несомненно оставался хозяином положения в той новой жизни, в которой они очутились, что позже Дэвиду казалось, будто их горе почти немедленно закончилось. Конечно, на самом деле так не могло быть, ни у него, ни у сестры и брата, ни у дедушки, внезапно потерявшего свое единственное дитя, но Дэвид был настолько потрясен абсолютной несокрушимостью дедушки, его полной властью над их маленькой вселенной, что теперь не мог думать о тех годах иначе. Все сложилось так, как будто дедушка всегда, с самого их рождения, предполагал стать однажды их опекуном и перевезти их в свой дом, где он до этого жил один, единолично определяя ход своей жизни; словно все это не свалилось на него внезапно. Позже у Дэвида появилось ощущение, что дом, и без того просторный, отрастил новые комнаты, новые крылья и ниши, которые словно по волшебству явили себя специально для них, и комната, которую он до сих пор называл своей (и в которой жил сейчас), соткалась из воздуха, из необходимости в ней, а не была переделана из какой-то заброшенной малой гостиной. Все эти годы дедушка говорил, что внуки вдохнули в дом жизнь, что без них он был бы просто нагромождением комнат, и, к его чести, все трое детей, даже Дэвид, поверили в это и были искренне убеждены, что преподнесли дому – а значит, и самой дедушкиной жизни – драгоценный и важный дар.
Он полагал, что каждый из них считал дом своим, но ему нравилось воображать, что по-настоящему это именно его логово, место, где он не просто живет, но где его понимают. Теперь, будучи взрослым, он иногда осознавал, как видится дом со стороны: хорошо организованное и вместе с тем эксцентричное пространство, наполненное вещами, которые дедушка собирал во время своих путешествий по Англии и континенту, и даже в Колониях, где он провел некоторое время в короткий мирный период, – но в основном Дэвид видел дом так же, как в детстве, когда мог проводить часы, перемещаясь с этажа на этаж, выдвигая ящики и открывая дверцы буфетов, заглядывая под кровати и диваны, чувствуя голыми коленями прохладную гладкость деревянных половиц. Он ясно помнил, как маленьким мальчиком лежал в кровати однажды поздним утром, наблюдая, как свет струится в окно, и понимая, что его место – здесь, и эта мысль внушала успокоение. Даже позднее, когда он не мог выйти из дому, из этой комнаты, когда жизнь его оказалась ограничена кроватью, дом продолжал казаться убежищем: стены не только сдерживали все ужасы мира, но и не давали распасться ему самому. Теперь дом будет принадлежать ему, а он дому, и Дэвид впервые почувствовал, что стены давят на него – теперь отсюда нет выхода, дом владеет им не меньше, чем он домом.
Такие мысли занимали его, пока он шел к Двадцать второй улице, и хотя ему вовсе не хотелось в клуб – он бывал там все реже и реже, не желая встречаться с бывшими соучениками, – голод заставил Дэвида войти внутрь, где он заказал чай, хлеб и колбаски и быстро съел все это, после чего снова зашагал на север, вдоль всего Бродвея, к южной части Центрального парка, и только потом повернулся и пошел домой. Когда он вернулся на Вашингтонскую площадь, было уже начало шестого, небо снова окрасилось темно-синим – оттенок одиночества, и он только успел переодеться и привести себя в порядок, как услышал внизу голос дедушки, который что-то говорил Адамсу.
Он не ожидал, что дедушка заговорит о событиях вчерашнего вечера, особенно в присутствии слуг, но даже когда они перешли к напиткам и остались одни в дедушкиной гостиной, дедушка продолжал говорить только о банке, о повседневных делах, о новом клиенте – владельце целого флота кораблей с Род-Айленда. Мэтью принес чай и бисквитный торт, густо покрытый ванильной глазурью; кухарка специально для Дэвида украсила его полосками засахаренного имбиря, к которому он питал слабость. Дедушка съел свой кусок аккуратно и быстро, но Дэвид не мог толком насладиться тортом, потому что все ждал, когда же дедушка упомянет вчерашнюю беседу, и боялся, что сам случайно сболтнет что-нибудь лишнее, как-то обнаружит свои смешанные чувства, покажется неблагодарным. Наконец дедушка, дважды пыхнув трубкой, сказал, не глядя на него:
– Дэвид, я хотел с тобой обсудить еще кое-что, но, конечно, не во вчерашней суете.
Здесь было бы уместно еще раз сказать спасибо, но дедушка отмахнулся, пуская дым из своей трубки:
– Не надо благодарностей. Дом твой. Ты ведь его любишь.
– Да, – начал Дэвид, все еще думая о тех странных чувствах, которые испытал сегодня на прогулке, когда несколько кварталов шел, пытаясь понять, отчего перспектива получить дом наполняет его не чувством безопасности, а паникой. – Но…
– Но что? – спросил дедушка, теперь уже на его лице читалось странное выражение, и Дэвид, боясь, что в голосе его прозвучало сомнение, торопливо продолжил:
– Я только беспокоился об Иден и Джоне, вот и все.
На это дедушка лишь снова махнул рукой.
– С Иден и Джоном все будет в порядке, – бросил он отрывисто. – Тебе нечего о них беспокоиться.
– А тебе нечего беспокоиться обо мне, дедушка, – сказал он с улыбкой, на что дедушка ничего не ответил, и оба они смутились от лжи такой огромной и очевидной, что даже приличия не требовали возражений.
– Для тебя есть брачное предложение, – нарушил молчание дедушка, – хорошая семья, Гриффиты из Нантакета. Они начинали, конечно, как кораблестроители, но теперь у них собственный флот и небольшая, но прибыльная меховая торговля. Джентльмена зовут Чарльз, он вдовец. Его сестра – тоже вдова – живет с ним, они вместе воспитывают ее троих сыновей. Торговый сезон он проводит на острове, а зимой живет на Кейп-Коде. Сам я не знаком с этой семьей, но у них очень хорошее положение в обществе – связи с местным правительством, а брат мистера Гриффита, который вместе с ним и с сестрой управляет их делами, председатель торгового товарищества. Есть еще одна сестра, она живет на Севере. Мистер Гриффит самый старший из всех, родители их живы, бизнес начали бабушка и дедушка с материнской стороны. Предложение поступило к Фрэнсис через их юристов.
Дэвид почувствовал, что должен что-нибудь сказать.
– Сколько лет джентльмену?
Дедушка прочистил горло и неохотно ответил:
– Сорок один.
– Сорок