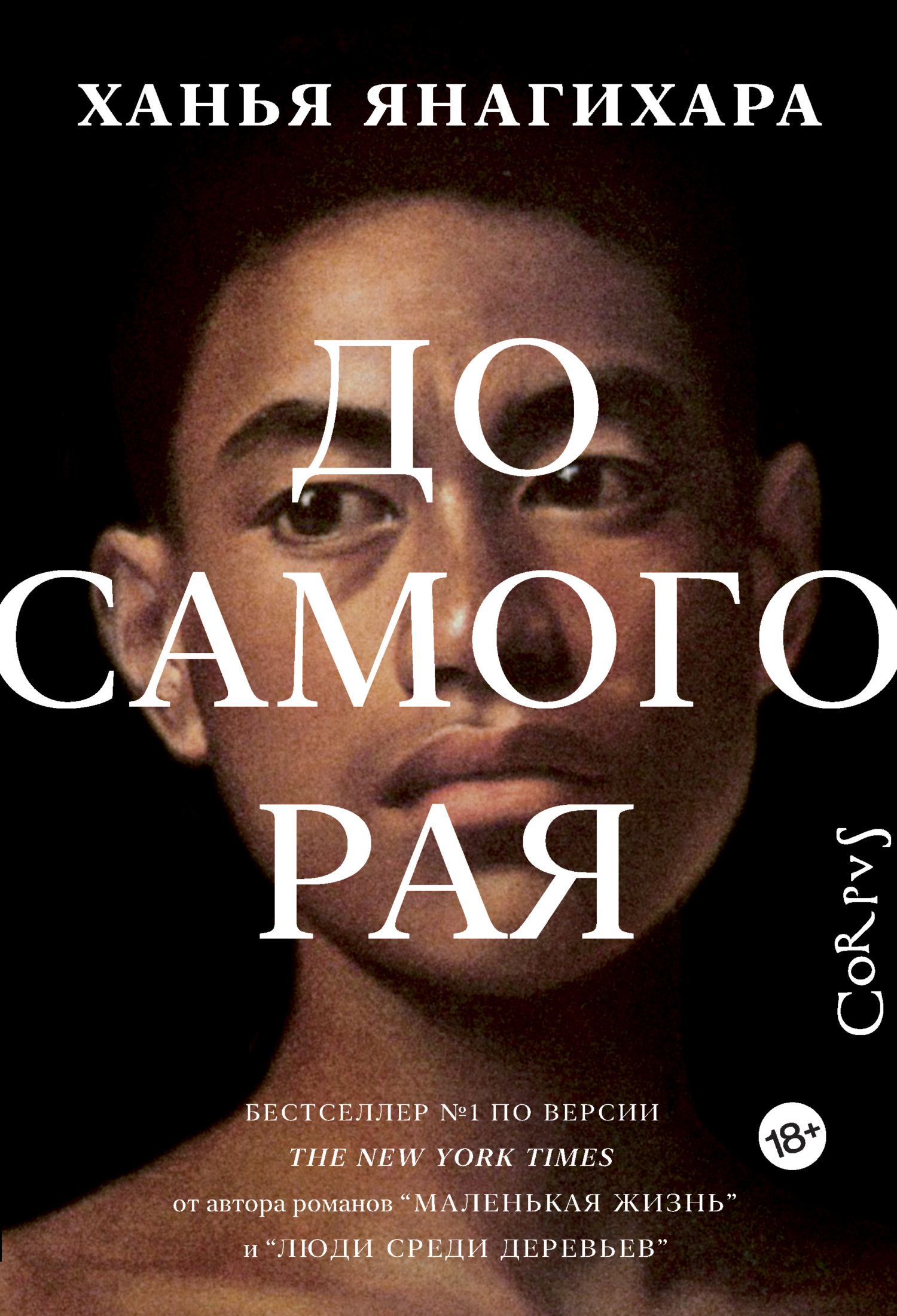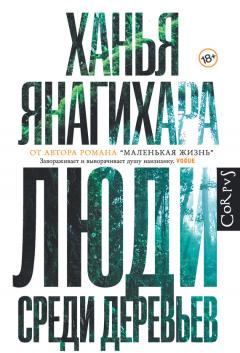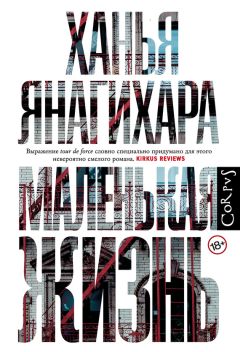один! – воскликнул Дэвид с большим ужасом, чем намеревался. – Простите. Но сорок один год! Он же старик.
На это дедушка улыбнулся.
– Не совсем, – ответил он. – Не для меня. И не для большинства людей в мире. Но да, он старше. Старше тебя, по крайней мере. – Дэвид ничего не ответил, и дедушка продолжал: – Дитя мое, ты знаешь, я не хочу женить тебя против твоей воли. Но мы с тобой это обсуждали, ты проявил интерес, иначе бы я не стал рассматривать их предложение. Сказать Фрэнсис, что ты отказываешь? Или все-таки назначить встречу?
– Я чувствую, что становлюсь тебе в тягость, – пробормотал он наконец.
– Нет, не в тягость, – ответил дедушка. – Как я и говорил, ни один из моих внуков не будет вынужден жениться, если сам не захочет. Но мне кажется, ты мог бы подумать об этом. Мы не обязательно должны ответить прямо сейчас.
Они сидели в молчании. На самом деле прошло много месяцев – около года – с тех пор, как кто-либо проявлял интерес, не говоря о предложении, хотя Дэвид не знал, потому ли это, что он с такой поспешностью и безразличием отверг двух последних кандидатов, или же просочились слухи о его недомогании, которое они с дедушкой так тщательно скрывали. Идея женитьбы и в самом деле его в какой-то мере пугала, но разве предложение от совсем незнакомой семьи – не повод для беспокойства? Да, они, конечно, занимают подобающее положение – будь это не так, Фрэнсис бы не посмела передать предложение дедушке, – но это значило также, что дедушка и Фрэнсис решили выйти за пределы круга людей, которых Бингемы знали, с которыми общались, – тех пятидесяти с лишним семей, которые построили Свободные Штаты, среди которых не только он, его брат и сестра, но и родители и дедушка провели свою жизнь. К этому маленькому сообществу принадлежали и Питер, и Элиза, но уже стало очевидно, что он, старший брат и наследник, вознамерившись жениться, вынужден будет выбрать спутника жизни за пределами этого золотого круга, ему придется искать себе пару среди чужих. Бингемы не были высокомерны, не отгораживались, они не относились к тем, кто не станет иметь дело с купцами и торговцами, с людьми, которые начали свою жизнь в одном общественном слое, но благодаря трудолюбию и способностям оказались в другом. Так могла бы вести себя семья Питера, но не они. И все же он не мог не чувствовать, что подводит семью и что наследие его предков, ради которого они так неустанно трудились, будет умалено по его вине.
И еще он чувствовал, несмотря на уверения дедушки, что нельзя сразу отклонить предложение. Он сам был виноват в своем нынешнем положении, и само появление Гриффита говорило о том, что возможности его не бесконечны, даже при их имени и деньгах. Поэтому он сказал дедушке, что согласен на встречу, и дедушка – вот это выражение на его лице, что это, как не плохо скрытое облегчение? – ответил, что немедленно сообщит Фрэнсис.
Он как-то сразу устал и, извинившись, ушел к себе. Хотя комната неузнаваемо изменилась по сравнению с тем временем, когда он сюда вселился, он знал ее так хорошо, что легко ориентировался в темноте. Вторая дверь вела в помещение, которое они с братом и сестрой использовали когда-то для игр, теперь это был его кабинет, и именно туда он отправился с конвертом, который дедушка дал ему, прежде чем попрощаться на ночь. Внутри была небольшая гравюра – портрет Чарльза Гриффита, – и он принялся пристально разглядывать ее при свете лампы. Мистер Гриффит был светловолос, со светлыми бровями, мягким округлым лицом, с пушистыми, хотя и не чрезмерно пышными усами; Дэвид видел, что он коренаст, даже по этому изображению, которое показывало только лицо, шею и разворот плеч.
Внезапно его охватила паника, он подошел к окну, быстро отворил его и вдохнул холодный, чистый воздух. Уже поздно, вдруг понял он, гораздо позднее, чем ему казалось, внизу ни души. Неужели ему предстоит покинуть Вашингтонскую площадь, хотя только что он с тягостным чувством воображал, что, возможно, останется здесь навсегда? Он повернулся и оглядел комнату: полки с книгами, мольберт, письменный стол с бумагой и чернилами, кушетка, которую он приобрел еще в студенческие годы, чья алая обивка несколько обтрепалась с годами, шарф из мягчайшей шерсти с вышитыми турецкими огурцами – дедушкин подарок на позапрошлое Рождество, специально заказанный из Индии, – все здесь было устроено для его удобства, или удовольствия, или для того и другого; он попытался представить себе каждый предмет в деревянном доме в Нантакете – и себя там.
Но не смог. Место этим вещам было здесь, в этом доме, как будто дом сам их вырастил, как будто они были живыми и могли зачахнуть и умереть, если переместить их. А потом он подумал: разве не так же обстоит дело и со мной? Ведь и меня этот дом если не породил, то вскормил и вырастил? Если покинуть Вашингтонскую площадь, как найти себе место в этом мире? Как покинет он эти стены, которые неизменно, безотрывно смотрели на него в любом его состоянии? Как покинет он эти половицы, которыми поскрипывал дедушка среди ночи, сам принося ему бульон или лекарство в те месяцы, когда он не мог выйти из комнаты? Это место не всегда было радостным. Иногда оно было ужасным. Но какой еще дом сможет он чувствовать настолько своим?
Раз в год, за неделю до Рождества, попечители Благотворительной школы и приюта Хирама Бингема приглашались на ленч в зал заседаний фирмы “Братья Бингемы”. Подавали ветчину, сладости, печеные яблоки, пирожные с заварным кремом, а в заключение Натаниэль Бингем, главный патрон приюта и владелец банка, появлялся собственной персоной в сопровождении двух клерков – выпускников школы, являвших собой обещание той невообразимой взрослой жизни, которая все еще была для детей слишком отдаленной и туманной (а для большинства, увы, такой и останется). Мистер Бингем выступал с короткой речью, призывая воспитанников усердно трудиться и слушать старших, а потом дети строились в два ряда, и каждый получал от одного из двух клерков большую плитку мятного шоколада.
Все трое внуков непременно присутствовали на ленче, и Дэвид больше всего любил даже не тот момент, когда дети замечали приготовленные лакомства, а выражения их лиц, когда они вступали в вестибюль банка. Он понимал их почтительное восхищение, поскольку сам испытывал его каждый раз – неоглядный простор пола